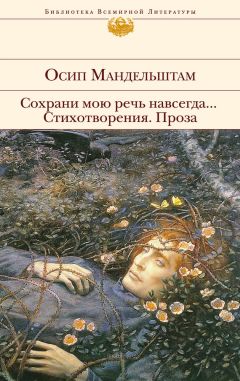Юрий Верховский - Струны: Собрание сочинений
Творчество Верховского – замечательное и в буквальном смысле непаханое поле для стиховеда, который, без сомнения, сумеет оценить, проанализировать и показать, как тончайшие приемы ремесла, мастерства превращались в столь же изысканные оттенки смысла и эмоций. Но есть еще одна особенность. Нет, наверное, в нашей литературе другого поэта, который сумел бы запечатлеть в стихотворной речи некоторый способ говорения, не столько существующий главенствующий, сколько идеальный для той или иной эпохи. Оставаясь собой, верный избранной классической просодии, он, тем не менее, создает в первых трех книгах речевой портрет поэта-интеллектуала, а в «Солнце в заточении» – пореволюционную языковую личность.
Неслучайно произведения 1930-х сплошь и рядом тяготеют к эстетике городского романса. «Только вечер настанет росистый…» или «Ты вновь предо мною стоишь, как бывало…» так и слышатся в исполнении Обуховой… После элегий и идиллий, перед гекзаметром 1940-х эта просодия выглядит загадочной – и по-своему завораживает
Верховский, сотрудник Института живого слова, – конечно, речевик , при всей своей «книжности».
В «Будет так» дан строй речи человека, всей русской культурой подготовленного к борьбе с фашизмом. «Смоленск родной» кажется совершенным речевым выражением страсти к победе.
Эта страсть поражает. Парадоксально, но, кажется, война оказалась фактором, примирившим Верховского с советской властью (хотя своего неприятия он нигде не высказывал, во всяком случае, письменно). Но вот что интересно: до 1941 г. подавляющее большинство его стихотворений подписаны двойной датой – по старому и по новому стилю. В военные годы двойная датировка исчезает. Поэт из межеумочья, зыбкого существования между двумя историями возвращается в одно время – в свое время. Порой такие мелочи, как дата, кричат громче бурь…
А с другой стороны, кто еще из поэтов, кроме «тишайшего», незлобивого Верховского, мог в 1922 позволить себе опубликовать два таких стихотворения, как «Распятому Христу» (перевод хрестоматийного образца ранней мексиканской поэзии) и «Люблю я, русский, русского Христа…»? Ни в одной из трех предыдущих книг нет примет особенной религиозности их автора. И вдруг – явно христианская образность. Откуда она? Не от общей ли охранительной страсти его поэзии?
Границы своего поэтического мира Верховский очертил уже в «Разных стихотворениях», причем с завидной для «начинающего» определенностью; услышать мир через звуки поэтического языка, увидеть его с помощью звуковой оптики , построить свое мироздание не с помощью темы, не посредством увлекательного рассказа об изысканных душевных переживаниях или экзотике дальних стран, а лишь созвучиями и ассонансами – такого, пожалуй, и в ту пору никто не делал:
Тени ночные, в вас тайны созвучья;
Образы дня – вы понятны, как рифмы.
Ночью земля и прекрасней, и лучше;
Грезы – над миром парящие нимфы –
Вьются туманами,
Звуками стелятся –
Смутными чарами,
Полными шелеста.
…………………………………
И безвольно душу я раскрою
Перед пышной плещущей игрой;
Дам скорей в себя вомчаться рою
Снов и грез – колдующей порой.
И живому чающему духу
Откровенья зиждущего жду;
И на радость алчущему слуху
Всё приму, ниспосланное уху,
Всё – как дар: и ласку, и вражду.
(«Тени»)
Одна из главных черт поэзии Верховского – плотская осязаемость, ощутимая материальность каждого словесного построения. «Тайны созвучья» – не только красивая метафора, но и смысловой лейтмотив. Придать служебному приему определенность высказывания, сделать «служебное» значимым, по сути, предельно сблизить содержание и форму – снова нельзя сказать, что это простая и частая в истории поэзии задача.
* * *
О том, какое место занимало поэтическое творчество в жизни Верховского, свидетельствует его дневник 1903-1905 гг. [36] Здесь приводятся выдержки из него (информацию об упомянутых лицах см. в Примечаниях или ниже в сносках).
«31.Х. 1903. СПб. Написал вчера о золотом имени на лепестках лилии и пр. Обыкновенно мне и мысль, и форма приходят в голову, кажется, нераздельно. Иногда иначе.
Сонет с созвучиями, а не с рифмами… <говорят, что> производит впечатление белого стиха. Не думаю. М. б. созвучия нужно выбирать более полнее. <.. > Пожалуй, можно вдаться в каламбурность. Но где же граница? Конечно, сонет – не сонет итальянский.
<…>
Да, я всё просматриваю мои прежние, старые невыполненные планы стихов. Взгляд, конечно, уже другой. Теперь уж я ушел, кажется, от всего этого. Оттого и написал:
Давно, во власти лунной ночи…
Также и лилию. Не знаю, выполнится ли когда-нибудь сюита в память Боратынского.
Да, теперь меня так и несет.
Вечером. Сегодня пятница. Переписал Осень . В понедельник надо идти к Вейнбергу [37]. Был у него две недели тому назад. Он отнесся ко мне очень любезно и без записки Брауна. О ней я вспомнил только среди разговора. О переводах, о Ленау, обещал содействие. О журналах. Он теперь в сношениях только с тремя: Мир Божий, Русское Богатство и Вестник Европы. Еще Нива. “Да больше, собственно, у нас и нет журналов”. Был очень прост, говорил спокойно и благодушно и с некоторой стариковской гордостью. Мы, мол, это всё знаем, видели. – Стихами не проживешь, да и вообще литературным трудом прожить трудно. Советовал на стихи не рассчитывать. Разумеется, о научных занятиях переводами: с самого начала лучше не разбрасываться – и проч. Предложил написать фельетон об Альфиери [38], обещал послать в Русские Ведомости. Кроме них имеет дело только с Новостями. – Ни в Публичной Библиотеке, ни в книжных магазинах, ни в Университете до последних дней ничего не нашел юбилейного, да и вообще об Альфиери.
3. XI. Вейнбергу передал свои оригинальные стишки – в стиле пушкинской школы (не совсем точно). – “Т. е. как в стиле?” – Не подражание, а… etc. Какое значение? – Вейнберг, кажется, понял меня более “полемически”, чем я хотел. Мне бы не хотелось, чтоб мои стишки пошли в ход назло Брюсову и пр.
Веселовский в докладе – сказал, между прочим, что Несмеяна – имя, придуманное для передачи чужого имени захожего сказания, что оно по своей форме не может быть русским. Почему?
5. XI. У меня накопилось зараз черт знает сколько дел:
1. Кончать – т. е. писать – биографию Соболевского.
2. Начинать биографию Слепцова.
3. Спешить со множеством биографий для Павлова-Сильванского [39].
4. Фельетон об Альфиери.
5. Рецензия для Мира Божьего. Главное – о смерти Тентажиля.
6. Рецензия о брошюре: Научная деятельность Кирпичникова [40] – для Журнала Министерства Народного Просвещения – по предложению Батюшкова.
6. XI. …Кузмин был и днем, и вечером… .Он читал – продолжение своего либретто [41] – полторы картины: в шатре во время битвы (сцена заканчивается смертью Пьетро да Винчи) и — в монастыре, приход Асторро. По-прежнему ярко и интересно.
7. XI. Вчера перевел стихи из П. Верлена. Не очень близко. Особенно жаль, что не удалось передать:
…се paysage bleme
Tu sera bleme Toi-meme…[42]
Кажется Верлен – один из непереводимых поэтов, если вообще есть переводимые.
8. XI. Вечером отправился… к Кузмину. Он именинник. Написал музыку на моего Коршуна. В общем мне нравится. Хорош конец.
О середине согласен…: она органически будто не слита с целым, есть и некоторые шероховатости в одном месте… Но целое хорошо и, по-моему, лучше Нарцисса.
<…> У Кузмина. <…> Михаил Алексеевич пел русские песни из сборников Балакирева, Лядова, Римского-Корсакова. Очень хороши.
Пел он еще шекспировские сонеты, я слышал в первый раз. Все лучше первого, который в общем все-таки хорош.
Мне хочется написать сонеты «на мотив» этой сюиты. Кузмин мне переведет точно, и я попытаюсь.
Читал Верлена.
13. XI. Вчера было страшное наводнение (11S ф.) – самое сильное после 1824 г. (тогда было 13S ф.). Ужасная вещь. Мы уже начали перебираться в следующий этаж. Говорят, по нашей линии ездили на лодках. В Гавани в некоторых домах вода в первом этаже доходила до потолка. Страшное несчастие.
<…>
В понедельник был у Вейнберга. Он опять извинялся: не все стишки успел прочесть. В общем – одобряет. “Не могу – говорит – сказать, чтобы был именно талант . Но безусловно солидные стихи ”. Вот его отзыв. Обещал передать в Вестник Европы, отметив стихи, по его мнению лучшие и тогда написать мне. Когда это будет, не знаю.