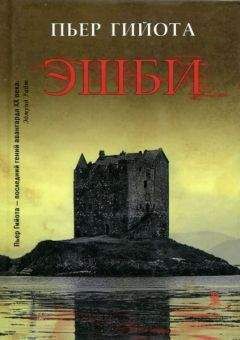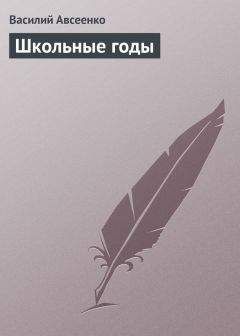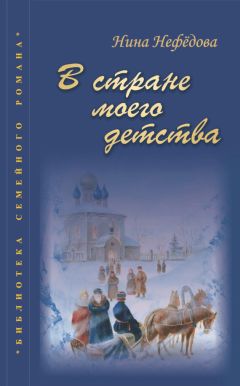Дмитрий Дашков - Поэты 1820–1830-х годов. Том 1
231. ЖАЛОБЫ НА П<ЕТЕР>БУРГ
В дымном городе душно,
Тесно слуху и взору,
В нем убили мы скучно
Жизни лучшую пору.
В небе — пыль либо тучи,
Либо жар, либо громы;
Тесно сжатые в кучи,
Кверху кинулись домы;
Есть там смех, да не радость,
Всё блестит, но бездушно…
Слушай, бледная младость,
В дымном городе душно!
232. ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА К ВАМ
Я взглянул в ваш край счастливый,
Вашим кланялся богам,
Но узнал, что бес ревнивый
Стережет дорогу к вам:
Всё беды без промежутка,
Рвы и реки на пути,
И от Медного не шутка
До Бернова довезти!
На извилистых дорожках
Ни приметы, ни версты;
То грозят на курьих ножках
Допотопные мосты,
То пугает бес лукавый
Быть под горку на боку,
То по горло переправой
Вас потешить чрез реку;
Мнишь: аминь дороге тряской,
Цель сердечная близка,—
Глядь — опять перед коляской
Змеем кинулась река,
За деревней, с гору ростом,
Лег горбатый домовой,
Вдоль дороги черным мостом
Перегнулся над рекой;
Страх! опять по шею в воду
Прямо кинешь лошадей,
Бьешься час, не зная броду,
В гору выедешь, и с ней
Наконец блеснет желанный,
Мирным стражем ваших мест,
Колокольни деревянной
На вечернем небе крест;
Бес-проказник исчезает,
Ободрился паладин,
И над рощею всплывает
Милый сердцу мезонин.
233. ВОСПОМИНАНИЕ («Друг того, чей взор тоскующий…»)
Друг того, чей взор тоскующий
Не вздремнет на ложе сна,
Звездной тверди гость кочующий,
Солнце полночи, луна,
Я люблю твой лик божественный,
Но не греет он в ночи,
И не властны тьмы торжественной
Разогнать твои лучи…
Да, но есть еще сияние,
Есть луна небес других:
Там горит воспоминание
Благ утраченных моих.
При звезде его негреющей
Их душа распознает,
Но ни искры пламенеющей
С них на сердце не падет!
234. ВОРОН
Здорово, друг ворон, бездомный, бессонный,
Разумная птица моя!
Сосед мой, мой ворон, мой гость благосклонный,
Прилет твой приветствую я.
Зачем ты так близко к жилищу живого
И зорко так в очи глядишь?
Иль вещую тайну из мира другого
Ты молча на сердце таишь?
Всё знаю, друг ворон, вещун запоздалый:
Ты поздно подсел под окно,—
Всё знаю, мой ворон, мне сердце сказало,
И сердце сказало давно!
235. ПУТЕШЕСТВЕННИК
Уж много лет как я, друг милый,
Оставя отчий дом,
Побрел, влекомый тайной силой,
Неведомым следом.
След всё вился в дичи опасной,
Всё глубже впадал в лес
И вдруг над пропастью ужасной
Заглохнул и исчез.
И вдруг призванья глас желанный
Умолк в моей груди…
Стою, седеет бор туманный —
И бездна впереди.
236. ПРИСТАВ ДОМА СУМАСШЕДШИХ К ПОСЕТИТЕЛЬНИЦЕ
Красавица, зачем нас посетила?
Что в этот гроб тебя могло привесть?
Придет пора, засыплется могила —
Тогда приди, на свежем дерне сесть…
Знакомы вы?.. Гляди смелее в очи:
В них нет любви, но и укора нет;
Ему слились, как привиденья ночи,
Все образы, без красок и примет.
Не бойся же, не вскрикнет, не узнает:
Всмотрись в его бездонные глаза, —
В них не земной теперь огонь пылает,
В них не блеснет знакомая слеза.
На пламени и козней и коварства
В нем мир земной, перепылав, погас;
Зато, царем заоблачного царства,
Как гордо он теперь глядит на нас!
В. Н. ГРИГОРЬЕВ
Василий Никифорович Григорьев родился 25 января 1803 года в семье бедствующего петербургского чиновника. Одиннадцати лет был отдан в Петербургскую губернскую (будущую 2-ю) гимназию, которую окончил в декабре 1820 года. Из гимназии, отличавшейся рутинерством и бездарностью преподавателей, Григорьев вынес лишь чрезвычайно скудные сведения; однако он с благодарностью вспоминал впоследствии профессора русской словесности Н. Бутырского, который ободрил и поддержал первые поэтические опыты Григорьева — перевод из Оссиана «Гимн солнцу» и переложения псалмов. С начала 1820-х годов Григорьев начинает помещать в «Благонамеренном» свои стихи, преимущественно переводы из Салиса, Ламартина, Маттисона, Клопштока и др. Общение с Бутырским и товарищами по гимназии (в частности, П. Ободовским) вводит его в круг литераторов; одновременно Григорьев усиленно пополняет недостатки своего образования чтением и изучением языков. В 1821 году он поступает на службу в Экспедицию о государственных доходах, однако, несмотря на трудолюбие и исполнительность молодого чиновника, служебная карьера поначалу ему явно не удается. В декабре 1823 года уже получивший некоторую известность своими стихотворениями Григорьев избирается по представлению Рылеева членом Вольного общества любителей российской словесности.
Литературно-общественная позиция Григорьева в это время складывается под непосредственным влиянием декабристского крыла Общества; в его творчестве этих лет преобладающая роль принадлежит гражданским мотивам. По-видимому под воздействием Рылеева и Ф. Глинки, он возвращается к псалмодической лирике, используя библейскую образность для создания ораторских инвектив, насыщенных гражданским содержанием в духе аллюзионной декабристской поэзии («Падение Вавилона», 1822; «Чувства плененного певца», 1824; «Жалобы израильтян», 1824); характерно и обращение его к теме новгородской вольности («Берега Волхова», 1823) и наиболее героическим эпизодам русской истории («Нашествие Мамая», 1825); в том же русле декабристской литературной традиции идет и его известное стихотворение «Гречанка» (1825), наряду с «Грецией» Туманского один из наиболее значительных в литературе 1820-х годов откликов на греческое восстание. Весной 1825 года Григорьев впервые посещает Кавказ; «кавказская тема» с этого времени становится одной из важных в его творчестве.
Ни восстание 14 декабря, ни следствие по делу декабристов не коснулись Григорьева; однако еще в 1828 году в «Северных цветах» он печатает «Сетование» — одно из лучших своих стихотворений, проникнутое ощущением гражданской скорби и, несомненно, связанное с недавними событиями. Григорьев сохраняет и расширяет литературные связи: с Гречем и Булгариным (в «Сыне отечества» и «Северном архиве» он печатается еще в 1830-е годы), с Измайловым; в кружке Дельвига он знакомится с Пушкиным; у Булгарина (в 1826 году) — с Грибоедовым. В апреле 1828 года Григорьев отправляется в длительную служебную командировку на Кавказ; здесь он встречается со ссыльными А. Бестужевым и В. С. Толстым и присутствует на обеде по случаю свадьбы Грибоедова; в 1829 году он же первым встретил тело убитого Грибоедова, о чем рассказал в одном из своих очерков. Посетив Грузию, Нахичевань, Пятигорск, составив обозрения Нахичеванской провинции, персидской границы и торговли в Закавказском крае, Григорьев в конце декабря 1830 года вернулся в Петербург, с репутацией авторитетного знатока экономики и статистики. В 1832–1835 годах он постоянно находится в разъездах по служебным поручениям — в Олонецкой и Архангельской губерниях, в Пскове, на Украине, в Прибалтике, в Крыму[169]. Путевые впечатления проецируются в его поэзию, в частности «восточной темой», разрабатываемой, однако, в духе традиционной для романтической поэзии 1830-х годов «ориентальной» экзотики. Из стихов Григорьева исчезают общественные мотивы; происходит и смена жанровых форм. Он культивирует романс, лирический монолог, философско-дидактическую балладу; поэтика его приобретает черты «бенедиктовской» напряженности и мелодраматизма, однако без бенедиктовских крайностей. Стихотворения Григорьева 1830-х годов не выделяются как сколько-нибудь заметное и оригинальное явление и представляют интерес главным образом как факт эволюции поэтического стиля.