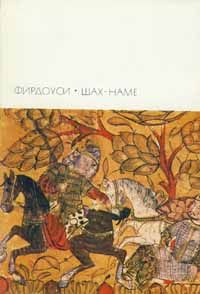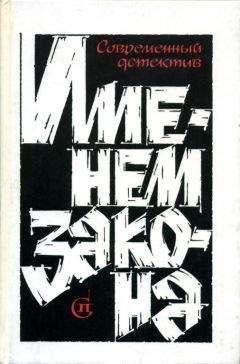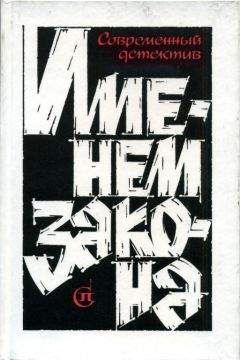Хаким Фирдоуси - Шах-наме
Афрасиаб заключает Бижана в темницу
Властитель Гарсиваза вызвал вновь:
«Оковы и темницу приготовь.
Ты нечестивца с этого мгновенья
Держи в наручниках, чьи тяжки звенья,
Их заклепай, и друга Манижи
Цепями с головы до ног свяжи,
И брось вниз головою в подземелье,—
Да позабудет счастье, свет, веселье!
За камнем, что зиждителем небес
Из моря брошен был в китайский лес,{39}
Ты на слонах отправься с караваном
И привези: мы счет сведем с Бижаном!
Избавит нас тот камень от невзгод,—
В пещеру дива закрывал он вход.
Ты камнем завали нору темницы,
Да сохнет в ней иранец юнолицый!
Оттуда поспеши к блуднице в дом,
Покрывшей своего отца стыдом.
Лиши ее дворца, нарядов, свиты,
Венец у недостойной отними ты.
Скажи: «Такой ли ждал тебя конец?
Ты осквернила царство и венец!»
Пред всеми опозорен, я тоскую,
Склоняя голову свою седую.
Босую к яме ты приволоки:
Птенец попал не в гнездышко — в силки!
Скажи: «Была ты для него отрадой,
Теперь как сторож узника порадуй!»
От шаха удалился Гарсиваз,
Чтоб этот злобный выполнить приказ.
Богатыря, связав его цепями,
Поволокли от виселицы к яме.
Наручники надели на него,
И сталь цепей на теле у него.
Оковы заклепал кузнечный молот.
Несчастного, что был красив и молод,
Вниз головою бросили во тьму
И камнем завалили вход в тюрьму.
Затем с дружиною, как ветер гневный,
Ворвался Гарсиваз в чертог царевны.
Ее чертог разграблен был вконец,
Тот захватил кошель, а тот — венец.
В чадре, простоволосая, босая,
Царевна появилась молодая.
В пустыню Манижу поволокли,
И слезы по лицу ее текли.
Сказал ей Гарсиваз: «Живи в пустыне,
Ухаживай за узником отныне».
И вот осталась девушка одна.
Печали собеседница она.
Пустыней побрела в слезах и горе.
День миновал, и ночь минула вскоре,—
Она пришла к темнице поутру,
Отверстие прорыла в ту нору,
Ушла, когда заря зажгла все небо...
Как нищенка, просила всюду хлеба,
И, накопив за долгий день запас,
К темнице возвращалась в поздний час,
И опускала хлеб на дно, рыдая...
Так стала жить царевна молодая.
Гургин возвращается в Иран и лжет о судьбе Бижана
Семь дней в лесу Бижана ждал Гургин,
Семь дней в лесу он пребывал один,
Везде его искал, блуждал дубравой,
Лицо свое омыл водой кровавой.
Где друг его? Расстраивался он,
В предательстве раскаивался он.
Гургина конь доставил быстроногий
В лесную глушь, где сбился друг с дороги.
Воитель обошел безмолвный лес,—
Нет никого, исчез Бижан, исчез!
Вот перед ним — зеленая поляна.
Быть может, здесь найдет Гургин Бижана?
Как вдруг увидел он издалека
Коня Бижана возле родника.
Седло свалилось набок, сбруя сбита,
Уздечка сорвана, в грязи копыта.
Он понял, что Бижан попал в капкан,
Что не вернется он теперь в Иран.
Где он теперь? В тюрьме? Петлей удавлен?
Мечом Афрасиаба обезглавлен?
Раскаиваясь, он искал пути,
Не знал Гургин, как честь свою спасти.
К шатру погнал он скакуна Бижана,
Всю ночь не спал и вышел утром рано,
Пустился в путь, домой, в Иран спеша,
Утратила покой его душа.
Дошли до шаха о Гургине вести:
Мол, сына Гива не было с ним вместе,
Но шах от Гива эти скрыл слова,
Решив с Гургином встретиться сперва.
Услышал Гив,— шумели повсеместно,—
Что храбрый сын его пропал безвестно.
Гив зарыдал и головой поник,
Из дома раздавались плач и крик.
Стонал он: «Где Бижан? Что с ним случилось?
В лесу, в стране армян, что с ним случилось?»
Седлать велел он, горем удручен,
Коня, что был вскормлен для похорон.
Скакун Кишвада убран был на диво,
И ярость клокотала в сердце Гива.
Вот богатырь вскочил в седло, и конь
Помчался, точно ветер и огонь.
Подумал Гив: «Увижусь я с Гургином,
Узнаю от него, что стало с сыном.
А вдруг, враждой иль завистью влеком,
Он зло Бижану причинил тайком?
Всю правду рассказать его заставлю,
А если предал сына — обезглавлю!»
Гургин скакал, чело в тоске склоня.
Увидев Гива, он сошел с коня,
Приблизился к нему с земным поклоном,
С лицом, в тоске истерзанным, смятенным.
Сказал: «О ты, что храброго храбрей,
Советник шаха, вождь богатырей!
Ты вышел со слезами мне навстречу.
Что я тебе скажу и что отвечу?
К чему мне жизнь, хотя она сладка?
Она сильна? Сильней моя тоска!
Как без стыда в глаза тебе я гляну?
Я плачу, я тоскую по Бижану!
Но будь спокоен, сын твой невредим,
Я расскажу тебе, что стало с ним».
Стоял в поту, в грязи, с потухшим взглядом,
С конем Гургина конь Бижана рядом.
Его увидев, Гив упал с седла,
Окутала его сознанье мгла.
Приник воитель головою к праху,
Порвал он богатырскую рубаху.
Он вырвал волосы из бороды,
Казалось, обезумел от беды!
Он говорил: «Создавший хлябь и сушу,
Любовь и разум ты вселил мне в душу.
Тебе назад я душу отдаю:
Пропал мой сын в глухом лесном краю!
Ты знаешь лучше всех, как я горюю,
Ты душу унеси мою больную:
Любви и горя, брани и похвал
На сей земле с избытком я познал.
Но сын сокрылся в месте потаенном,
И я теперь захвачен в плен драконом!»
Затем сказал Гургину: «Расскажи,
Как было дело, но чуждайся лжи.
Убит ли он на поединке бранном,
Иль призраком он был похищен странным?
Скажи: он умер от смертельных ран
Иль задушил его судьбы аркан?
Ответь мне словом ясным и правдивым:
Быть может, сын мой уничтожен дивом?
Где ты без всадника нашел коня?
Скажи мне: где Бижан? Не мучь меня!»
Сказал Гургин: «Вот речь моя прямая.
Себя возьми ты в руки, мне внимая.
Сейчас о том слова произнесу,
Как с кабанами бились мы в лесу.
Узнай о происшествии тяжелом,
О, богатырь, владеющий престолом!
Достигли мы армянской стороны,
Где буйствовали эти кабаны.
Растоптанных полей, побитых пашен
И рощ поваленных был облик страшен.
Здесь превратились кабаны в господ,
Постигло злое бедствие народ.
Когда мы копья подняли и с криком
Вступили в битву в этом месте диком,
Предстал кабан, огромный, как скала,
За ним — другие, злобным нет числа.
Как львы, чьей доблести чужда пощада,
Громили мы вдвоем кабанье стадо,
Свалив их к кучу, мощны и крепки,
Мы вырвали у кабанов клыки.
Оттуда мы в Иран коней помчали,
Охотились, не ведая печали.
Онагр из чащи выбежал на луг,
Как дивный идол, появился вдруг.
Сед, как Гударз, он мчался — беломастный,
Казалось, это сам Фархад прекрасный!
Иль то коня Бижана был собрат?
При этом, как Симург, он был крылат!
С ногами, как у ветра, с гривой львиной,—
Как будто с Рахшем крови был единой!
Он встал, как слон, пред нами, а Бижан
Тотчас накинул на него аркан.
Онагр-красавец вырвался из плена,
Бижан вдогонку ринулся мгновенно.
Бежит онагр, а верховой — за ним.
От бега на лугу вздымался дым,
И волны праха друг на друга лезли,
И тот онагр и твой Бижан исчезли,
В их поисках прошел я сто дорог,
Мой конь от долгих странствий изнемог,—
Простыл Бижана след, лишь вороного
Я встретил, изнуренного, больного.
«Но где Бижан,— я думал в этот миг,—
Онагра он догнал иль не настиг?»
Я поисков не прекратил, однако,
Я пробыл там до наступленья мрака.
Я понял: нам дорогу преградив,
В онагра обратился Белый див!»
Внимал отец, внимал, утратив сына,
И усомнился в чистоте Гургина.
Рассказ, хотя и полон был прикрас,
До глубины души его потряс.
Смущенье скрыть стараясь безуспешно,
Гургин дрожал, а сердце было грешно.
Подумал Гив, что речь его — обман,
Что глупо так не мог пропасть Бижан.
Старался Ахриман, исчадье скверны,
Чтоб Гив, озлоблен, выбрал путь неверный,
Внушал ему: «За сына отомсти,
Те, кто врагам прощает,— не в чести!»
Терзался Гив, тоскуя и пылая,
Не сразу появилась мысль благая:
«Враг мира цель преследует свою.
Что пользы, коль Гургина я убью?
Что пользы, если я убийцей стану?
Иначе надобно помочь Бижану!
Лжецу могу я голову рассечь,
И даже стену рассечет мой меч.
Пойду, предстану взорам властелина,
Пускай вину он выявит Гургина».
Сказал Гургину: «Вижу твой обман,
Воистину ты злобный Ахриман!
О, где мой сын, мой шах, моя денница?
Бижану ты помог с дороги сбиться!
Меня поверг ты в страшную беду,
Я выхода, несчастный, не найду.
О, где мой сон и отдых, где лекарство
От твоего обмана и коварства!
Вступить я должен с шахом в разговор:
Тебе не дам покоя до тех пор.
Затем прибегну к верному булату:
За сына, за себя начну расплату».
Гив приводит Гургина к Хосрову