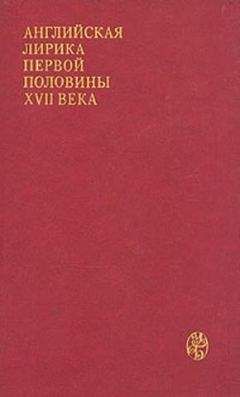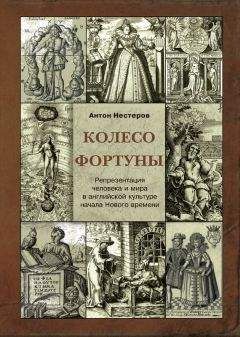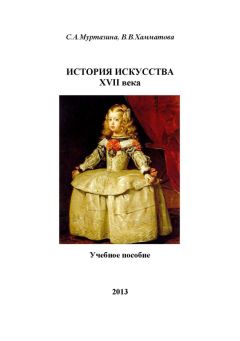Дмитрий Бак - Сто поэтов начала столетия
Подобная довольно-таки однообразная назидательность прямо сопрягается и с «консервативной» поэтикой:
Что твердишь ты уныло: нет выхода…
Много есть входов!
Есть у Господа много персидских ковров-самолетов.
‹…›
Потому что здесь все не напрасно и все однократно:
если выхода нет, пусть никто не вернется обратно!
Но войти можно всюду – нагрянуть ночною грозою,
сесть на шею сверчку незаметно, влететь стрекозою,
нагуляться с метелью, озябшими топать ногами,
на огонь заглядеться, на многоочитое пламя:
как гудит оно в трубах, как ветер бунтует, рыдая…
…И окажешься там, где свободна душа молодая!
Самое поразительное в том, что за повторяющейся риторической схемой стоит искреннее, живое переживание жизни, да вот беда, как раз с традиционным-то искусством все это мало совместимо. С точки зрения традиционной лирической поэтики нанизывание ситуаций, иллюстрирующих сколь угодно верную притчу, выглядит простым ритуалом, повторением абсолютной истины о том, что и дважды два – четыре, и восемь, деленное на два, и шестнадцать – на четыре, – все равно, как ни крути, выходит четыре, да что мне, читателю в том, коли я привык черпать нравственные силы в Священном Писании, а от искусства жду чего-то иного. Рискуя впасть в патетику, вспомним все же, что даже известные в истории русской литературы великие попытки сблизить либо отождествить искусство с прямым (моральным) влиянием на жизнь, оканчивались трагически. Поздний Гоголь вместо обещанного продолжения «Мертвых душ» публикует «Выбранные места из переписки с друзьями» – книгу в своем роде гениальную, но многими воспринятую как симптом безумия. Поздний Толстой пишет роман-бунт «Воскресение», пытается заново переписать Евангелия, и это тоже оборачивается трагедией. Обе великие попытки переступить через сомнительно-вольную природу искусства были безусловно авангардными по своей сути, не отсылающими к традиции, а перечеркивающими привычные устои искусства.
Конечно, и у Олеси Николаевой, несмотря на отчетливое господство во многих стихотворениях упрощенно понятой «традиционности», много и на словах отвергаемого «авангарда» – не только в тех вещах, где дружески упоминается Лев Рубинштейн. Вот, например, стихотворение «Магдалина», где под сомнение ставится сама возможность подобающего восприятия и духовного освоения современным человеком сакральной смысловой топики:
Ну-ну,
а ты попробуй нынче: в покаянье
приди к архиерею, на колени
пади, слезами вымой ему ноги,
так волосами даже не успеешь
их вытереть – тебя под белы руки
оттуда выведут, и хорошо, когда бы
все это обошлось без шума, вздора,
пинка, а так – иди, мол, не тревожь владыку!
‹…›
И вот я думаю – какой экстравагантной,
ломающей поденщину и пошлость
Благая Весть нам кажется сегодня!..
Да, в нашей сокрытой духовной жизни лучше бы, коли все свершалось бы без полутонов, перед лицом ясной неотвратимости возмездия за грех и столь же неоспоримого воздаяния за подвиг. Но поэзии все это почти всегда противопоказано, поскольку искусство – не приговор и истина, но область возможного, вероятного, зыбкого, желанного, но трудно достижимого.
Я не помню, когда это стало заметно каждому: факел твой
накренился и стал чадить – паленым запахло, дымом
потянуло, подернулось копотью. Как ножевой
порез – почерк без волосных, но – сплошным нажимом.
Факел твой накренился – и дальний лес заскрипел,
черные сучья топорща: вместо снежка и манны
с неба крошится труха, ледяная известка, мел,
словно и дом твой небесный рушится, безымянный.
Что бы ни ел, ни пил – казалось, все – по усам…
Тосковал. Томился.
Тихою сапою, наконец, взял да и сдался сам.
Вот тогда-то факел и накренился…
Как только гарантированный аллегоризм уступает напряженному сосуществованию обычной жизни на грозном фоне недостижимой нормы, в стихи Олеси Николаевой возвращается поэзия. И ведь бывает, бывает же!
БиблиографияНичего лишнего // Новый мир. 2001. № 5.
Ты имеешь то, что ты есть // Новый мир. 2003. № 3.
Испанские письма. М.: Материк, 2004. 84 с.
Остальное возьму… // Арион. 2004. № 1.
Повсюду – тайны // Арион. 2005. № 2.
Бескорыстный эрос // Новый мир. 2006. № 1.
Отражение в зрачке // Арион. 2006. № 3.
Двести лошадей небесных // Знамя. 2006. № 5.
Ничего страшного. М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2007. 440 c.
Тридцатилистник // Арион. 2007. № 3.
Национальная идея // Новый мир. 2007. № 8.
Двести лошадей небесных. М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2008. 128 с. (Поэтическая библиотека).
Осуществленная свобода // Арион. 2008. № 2.
Стихи // Арион. 2008. № 4.
500 стихотворений и поэм. М.: Арт Хаус медиа, 2009. 752 с.
«Щастье» // Арион. 2009. № 4.
Герой // Новый мир. 2009. № 4.
О, если бы… // Знамя. 2009. № 6.
Сложный глагол «быть» // Арион. 2010. № 3.
Преображение вещей // Знамя, 2011, № 6.
До небесного Иерусалима. СПб.: Издательская группа Лениздат, 2013. 128 с.
Герой. М.: Время, 2013. 192 с. (Поэтическая библиотека).
Лев Оборин
или «неделимость простых вещей»
У Льва Оборина есть своя тема: он всматривается в слова и вещи, как будто слышит и видит их как в первый раз, вернее сказать, – всматривается в отмеченные значениями соответствия слов и вещей. Так ведь получается, что все вокруг уже кем-то и когда-то названо словами, учтено в словарях, навсегда зафиксировано, оформлено правилами словоупотребления. Первобытная нетронутость мира словом напрочь позабыта, даже сам процесс наречения вещей аккуратно вписан в разнообразные скрижали – от знаменитого платоновского диалога «Кратил» до учений о статусе слова в мировых религиях.
Оборин формулирует свою позицию достаточно прямолинейно, хотя и не без иронии:
каталожник я и книжник
ты художник передвижник
спросишь чем стекло покрылось что в окне туманит сад
плача от потери силы я отвечу конденсат!
то в ушах моих концлагерь
марширующих с бумаги
слов которые не имя тут себя я оборву я уже любуюсь ими
улыбаюсь и живу
Стоит подчеркнуть, что речь идет не о позиции поэта и его стремлении выразить мир в слове, дело в другом – в принципиальной невозможности «самовитого» слова, не запертого заранее в словаре. Это хроническая персональная недостаточность словоупотреблений особенно болезненна именно для художника, причем даже не в моменты высших прорывов вдохновенья, а просто при попытке «назвать вещи своими именами», даже самые прозаичные, вроде старой подставки для цветочных горшков в виде разнокалиберных металлических кружков, приваренных к вертикальному стержню.
Колченогая железная ось
советского производства
раскидала кольца под глиняные горшки
Встречи, лица
объединяются в гнёзда,
как в словаре Даля
Язык мстит
целомудренным словарям
и нецеломудренным словарям
Безысходная двусмыслица несоответствий: язык шире, чем совокупность словарных норм, мир шире, чем язык. И это касается не только бытовых вещей и размышлений, но и фундаментальных принципов бытия, например – законов физики. Почему-то нам прекрасно известно, что свет движется с наибольшей возможной в мире материальных вещей скоростью. Мы не в силах поставить этот закон под сомнение не только потому, что любая физическая формула предельно отдалена от индивидуальных возможностей конкретного человека, но и по той причине, что мы не учитываем важнейшую роль материи языка, незримо посредничающего между отдельной личностью и ее восприятием физических законов. Между тем, при попытке применить абсолютно верную физическую формулу к реальности парадоксы возникают на каждом шагу:
Солнце ползет по низинам, по замерзшим трясинам,
По горным вершинам, по стариковским морщинам.
Идет и заглядывает в ледяное озеро,
Высвечивает лягушек в анабиозе.
Ответ без вопроса. Ни для кого примета.
Нет ничего медленней скорости света.
Итоговый вывод для эмпирического восприятия мира столь неоспорим, как незыблемы законы физики с точки зрения традиционной рациональной логики. Нельзя не отметить, что одна из магистральных тем Льва Оборина, будучи ориентирована на абсолютно непосредственное, незамутненное никакими теориями восприятие происходящего вокруг, все же по происхождению своему носит характер совершенно теоретический, умозрительный, будучи накрепко связанной как раз не с удивленными вопросами обычного человека, созерцающего мир, но с достижениями и выводами разнообразных гуманитарных наук – от английской аналитической философии, уделяющей главное внимание бытийственным характеристикам лингвистических феноменов, до современной когнитивистики, исследующих психологические и языковые «технологии познания». И все же один из основных приемов Оборина имеет к повседневным эмоциям современного человека весьма прямое отношение. Что-то подобное вполне можно было бы сказать о знаменитых толстовских примерах остраненного изображения реальности. Николай Ростов созерцает, как движутся руки Долохова, тасующего и сдающего карты, и думает о том, как связаны эти движения с грядущими последствиями его крупного проигрыша: руки движутся, а я утрачиваю состояние и честь – как это происходит, каким образом первое связано со вторым?