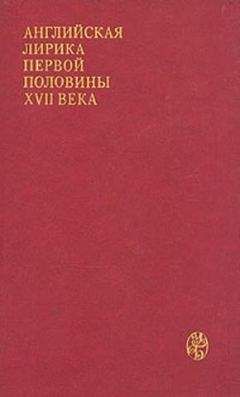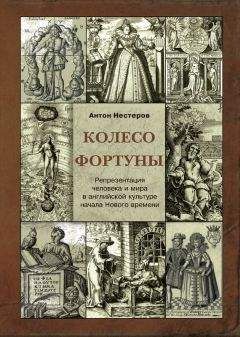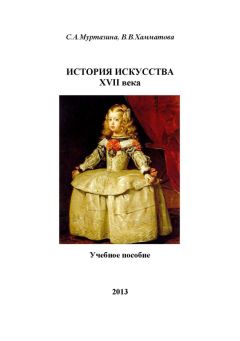Дмитрий Бак - Сто поэтов начала столетия
Образ (или призрак?) «сексуальной контрреволюционерки» возник в стране, где за пару лет до описываемых событий и секса-то не было, ежели кто не помнит. Призрак оказался – с человеческим лицом, и он (вернее, она) без боязни и без утайки бойко заговорил «про это» в самых разных контекстах и ракурсах. Самыми важными и глубокими, как можно предположить, оказались два контекста этого словоизвержения. Во-первых, субкультура детства, отнюдь, впрочем, не сводимая к шалостям пубертатного возраста.
В школе в учителей влюблялась.
В институте учителей хоронила.
Вот и вся разница
между средним и высшим образованием.
Во-вторых, библейские обертоны, придавшие полузапретной сфере жизни новую легитимность, освященную благородной архаикой стиля и серьезностью интонации:
и стал свет
внутри живота
и закрыла глаза
боясь ослепить
и закрыла лицо
как Моисей
и увидел ты
что мне хорошо
Сложнейший смысловой конгломерат детской чистоты и инфантильной жестокости, женской эмансипации и супружеской уступчивой нежности, библейской сакрализации и почти обсценной брутальности оказался привлекательным, органичным, жизнеспособным. С шокирующим явлением и эпатирующим присутствием Павловой и «павловской» поэтики на территории русской поэзии читатели и критики вроде бы смирились, потом привыкли, а вскоре перестали понимать, как могло быть иначе, без нее. Многие тексты приобрели известность почти хрестоматийную:
Спим в земле под одним одеялом,
обнимаем друг друга во сне.
Через тело твое протекала
та вода, что запрудой во мне.
И, засыпая все глубже и слаще,
вижу: вздувается мой живот.
Радуйся, рядом со мною спящий, –
я понесла от грунтовых вод
плод несветающей брачной ночи,
нерукопашной любви залог.
Признайся, кого ты больше хочешь –
елочку или белый грибок?
Потом (теперь!) наступили самые сложные времена: налет актуальной запретности исчез, новизна и свежесть ослабели – слишком сильным был замах, чтобы добиться настолько же мощного броска в будущее. С годами очевидней стал принятый Павловой добровольный обет упрощения многоцветья жизни, рамки павловского проекта новой российской социоэротики оказались достаточно тесными. Рядом с суженым горизонт существования героини Веры Павловой оказался весьма суженным, ничего тут не поделаешь, не попишешь. Что-то ушло прочь или все же возможно освежение «павловской» темы в русской поэзии? Кто знает – нам остается только Вера!
БиблиографияСовершеннолетие. М.: ОГИ, 2001. 348 с.
Интимный дневник отличницы. М.: Захаров, 2001.
Вездесь. М.: Захаров, 2002.
Голоса // Арион. 2002. № 2.
Голоса // Арион. 2003. № 2.
Систола говорит «да» // Новая Юность. 2003. № 6 (63).
По обе стороны поцелуя. СПб.: Пушкинский Фонд, 2004. 160 с.
Голоса // Арион. 2004. № 3.
Путь и спутник // Новый мир. 2004. № 5.
Стихи // Звезда. 2005. № 2.
«Не знаю, кто я, если не знаю, чья я» // Знамя. 2005. № 2.
Одно касание в семи октавах // Интерпоэзия. 2005. № 2.
Голоса // Арион. 2005. № 3.
Частный случай счастья… // Новый мир. 2005. № 10.
Письма в соседнюю комнату: Тысяча и одно объяснение в любви. М.: АСТ, АСТ Москва; Минск: Харвест, 2006. 616 с.
Ручная кладь: Стихи 2004–2005 гг. М.: Захаров, 2006. 320 с.
Сурдоперевод // Арион. 2006. № 2.
Гораздо больше, чем хотела // Знамя. 2006. № 3.
Убежит молоко черемухи… // Зарубежные записки. 2006. № 8.
Стихи // Вестник Европы. 2006. № 17.
Стихи // Новый журнал. 2006. № 243.
Три книги. М.: АСТ, 2007.
Голоса // Арион. 2007. № 1.
Жители рая // Новый мир. 2007. № 10.
Мудрая дура. М.: Аванта+, 2008.
Детский альбом Чайковского // Арион. 2008. № 3.
Последнее люблю // Арион. 2009. № 2.
В темноте босиком // Знамя. 2009. № 2.
На том берегу речи // Интерпоэзия. 2009. № 2.
Принцесса на горошине // Новый мир. 2009. № 2.
Стихи // Арион. 2010. № 2.
Однофамилица // Новый мир. 2010. № 9.
Однофамилица: Стихи 2008–2010 гг. Детские Альбомы: Недетские стихи. М.: АСТ, 2011.
Женщина: Руководство по эксплуатации. М.: АСТ, 2011.
Стихи // Арион. 2011. № 3.
За спиной у музыки // Октябрь. 2011. № 9.
Семь книг. М.: ЭКСМО, 2011. 544 с. (Поэзия XXI).
Либретто. М.: АСТ, 2012. 416 с.
Александр Переверзин
или
«Счастливого детства осечка…»
Воспоминание, переосмысление – важнейшая модальность поэзии. Упоение настоящим недолговечно, размышление над минувшим обладает совершенно другим запасом прочности, поскольку опирается на жизненный опыт, имеющий свою историю и потому приближенный к подлинности. Вот и в стихах Александра Переверзина часто речь заходит о прошлом, о детстве, и эти воспоминания, на первый взгляд, совершенно стандартны, обычны:
счастливого детства осечка
случилась где школа одна
у мелкой загаженной речки
за редким забором видна
лет десять тому здесь бараки
сгорели сегодня горят
огни дискотеки лишь баки
помойные те же стоят…
В этих стихах важно не содержание воспоминания, но сам факт несовпадения наличного и запомнившегося, улавливание способности помнить исчезнувшее – так, что именно «осечка» памяти становится главным содержанием наблюдения. Молодое упоение молодостью рискованно, поскольку почти неизбежно уступает место эмоциям «вовремя созревшего человека», а зрелое нередко (и часто преждевременно) становится однообразно старческим.
Александру Переверзину почти всегда удается удержаться на грани наивного упоения юностью и псевдоглубокомысленного обращения к канувшим молодым силам. В современной поэзии он сохраняет не молодость сил и возможностей, но молодое удивление своим негромким даром.
Мне хотелось быть в детстве врачом,
космонавтом и просто грачом,
чтоб весной прилетать во Власово,
как грачи на картине Саврасова.
Я любил танцевать и петь
и на девочку Юлю смотреть,
слушать песню про город Иваново
и невест. Я Ивана Жданова
не читал, а читал про волшебников
и не знал, кто такой Холшевников.
Я тогда не работал над словом,
не зачитывался Соколовым,
словари за собой не таскал…
Говорит все это человек, конечно, прочитавший и Жданова (Ивана), и Холшевникова (книги по теории стиха), но по-прежнему норовящий жить и писать мимо пристрастий и правил, работать по законам простого присутствия в жизни общей, пусть порою понятой упрощенно и без интеллектуальных излишеств. Более того, именно простота становится основой и гарантией невыдуманных смыслов, именно из нее может вырасти понимание таинственной сложности жизни.
Не забуду с дошкольного самого,
как боялись канадцы Харламова:
Кларк впечатывал, Хоу окучивал,
он их пачками здесь же накручивал.
Сила – скифова, мужество – греково,
воля – ромова. Зависть – канадова.
Им теперь и бояться-то некого,
разве только какого бен Ладена.
К горизонту щербатое, братское
подползает шоссе Ленинградское,
федеральное автологово.
Тьма чайковская. Пламя блоково.
Тьма и пламя в последней строке сошлись вопреки более очевидным антонимам (например, свету и льду). Каким образом «из пламя и света рожденное слово» возникает из хоккейной неуступчивости образца 1972 (или 1976) года? И каким образом связывает то и другое парализованная пробками многострадальная Ленинградка, получившая в последние годы неуклюжий титул «вылетной магистрали»? Сопряжение очевидного и тайного, бесхитростного и многосложного происходит в стихах Переверзина совершенно спонтанно, его главная цель – не тривиальный сеанс разоблачения черной магии, но ее умное и умелое сбережение, бдительная охрана от мастеровитых хакеров. Тайное становится явным, не утрачивая загадочности. В стихи обращается не только сор, но и любой пустяк, попавший в силовое поле воспоминания, мгновенное превращение быта в стих не обставлено атрибутами алхимии или литургии.
Конечно, сохранить первозданность преображения тайны в тайну, минуя прозрачную тривиальность, Переверзину удается не всегда. Порою в зазоре между органикой эмоции и непринужденным ее воплощением в слове оказываются слишком уж простые разгадки, обычно связанные с отношениями «я» и «ты», неизбежно меняющими знак молодого удивления чудом рождения стиха на слишком очевидные формулы из серии «ты со мной = прекрасно», «я без тебя = невыносимо».
Иногда в стихотворении попросту нечему разрушаться, поскольку все разгадки известны еще прежде начала разговора о загадках – да, случается и такое:
Воздух хватаю, держусь на плаву,
Свой рыбий рот разеваю:
«Да, я живой. Я тобою живу,
Только тобой прозябаю».
Здесь (стихотворение «Ворон») не спасает даже попытка вернуть исконный (пушкинский) смысл слову «прозябать», которое означает то самое прорастание, оживление, что и в строке про дольнюю лозу. Впрочем, гораздо чаще Переверзин избегает преждевременных разгадок, сохраняет в неприкосновенности первоначальную трехмерность исходного образа.