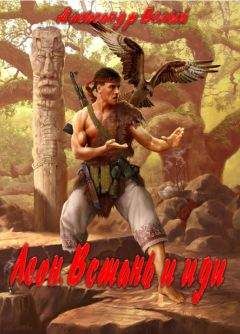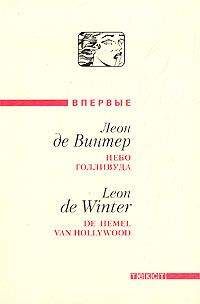Леон де Грейфф - Под знаком Льва
Баллада о ненавистном
Оратория-диатриба[12] праведных проклятийЯ приветствую вас, мещане,
вас, дворяне и торгаши!
Я вам сытой дороги торной
пожелаю от всей души.
Но и вы уж к нам снизойдите
и дозвольте нам, коли так,
пролагать себе путь, упорно
добывая свой свет и мрак.
Разомлевшие ротозеи,
верноподданные тщеты!
Вы, набившие снедью спеси
раздобревшие животы,
вы, базарные арлекины,
стадным движимые чутьем,
пересуды и предрассудки
пожирающие живьем,
лицемерные лицедеи,
смехохульники и ханжи,
гарнизонные резонеры
и заложники ржавой лжи!
Вы дозволите нам, бедолагам,
безалаберной голытьбе,
не принявши мудрости вашей,
быть по-прежнему не в себе.
Мы не молимся о прибытке,
не боимся мы нищеты,
а наивно в химеры верим
и в несбыточные мечты.
Нам, плевавшим на козни биржи,
наивысшая благодать —
нерасчетливо предприятья
обреченные начинать.
Не чураемся мы порока
и хозяина вечной тьмы:
что нам дьявол, когда сонеты
не по правилам пишем мы?
Утварь пользы утилитарной
вызывающе сдав в утиль,
откровенно мы презираем
вашей святости водевиль,
вашу праведную банальность,
ваше правильное житье,
штукатурную добродетель,
и продуманное питье,
и безрадостные объятья,
и расчета холодный душ,
и предписанную степенность,
вялость мыслей и чахлость душ.
Обветшалая злободневность
вечных истин в устах у вас
осыпается, выставляя
сытобрюшие напоказ.
В академии ли, на рынке,
я узнаю вас и во тьме,
ибо все вы одно таите
за душою и на уме.
Ограниченные порядком,
до чего же вы хороши,
о владетельные мещане
и сановные торгаши!
Вы чураетесь всех извилин
(не случился бы перегиб!),
ибо мутная мозговитость
признает лишь стереотип.
Монополией «совершенства»
завладели вы. Ладно. Но
только то для вас и красиво,
что шаблоном освящено.
Посылка
Процветайте себе, мещане,
и дворяне, и торгаши!
Я желаю дороги торной
вам, ей-богу, от всей души.
Но и нас оставьте в покое,
не мешайте болезным нам
бесполезно к вершине света
вновь карабкаться по камням.
Мы бредем в несусветный город
по извивам крутой тропы,
и плевали мы на насмешки
улюлюкающей толпы!
Баллада о странствующем трувере
С моей гитарой, как дозорный,
брожу я полночью дремучей
и рассыпаю, словно зерна,
в ночи певучие созвучья.
С моей гитарой утром рано
бреду окольною дорогой,
когда не дремлет лишь охрана
наймитов Критики убогой.
Бреду себе в тени акаций
я, сумасбродный и бедовый,
минуя заросли абстракций
и метафизики бредовой.
Играю людям, травам, ивам,
пою не избранным, а многим,
играю скорбным и счастливым,
пернатым и четвероногим.
Бреду, оставив за спиною
сады, угодья и подворья,
туда, где стынет под луною
гранит пустынного нагорья.
Там слепнут скрипки и валторны,
но слышен глас гитары зрячей,
и месяц пляшет так задорно,
ни дать ни взять — хуглар[13] бродячий.
Пусть ты освистана толпою,
не спорь, мелодия, с глухими:
ты рождена моей судьбою,
а не премудростью алхимий.
Плевать нам, песня, в самом деле
на то, кому кладут поклоны
горбатые Полишинели
и толстобрюхи Панталоне.
До этого нам нету дела:
пой, лира, под рукой Орфея,
свивай рулады, Филомела,
порхай, воздушная Психея,
а я, играя на гитаре,
бреду, ни перед кем не горбясь,
покуда пляшет мир в угаре
и вертится безумный глобус!
Баллада о хугларе, трувере и менестреле
Хуглар бродячий, менестрель
с душой как певчая свирель!
Ты на раскрестьях
всех дорог
оставил след…
Ты зяб и мок,
но все же брел ты, наг и нищ,
минуя сытость
городищ.
Дорог владетельный сеньор,
веселый пахарь тишины!
Твой горизонт
и кругозор
привязанностей лишены.
Пэр пустоши,
пустыни гранд, —
когда придешь ты в Самарканд,
когда копытами
коней —
Мазепа! — истолчешь
судьбу
и на галере, Галилей,
возденешь в небеса трубу,
как будто новую свирель,
хуглар бродячий, менестрель!
Трувер, бродяга, трубадур,
смотри двора не обрети!
Не зря тебя нарек авгур[14] скитальцем
Млечного Пути.
Сменив оседлость
на седло,
в Офир[15] загадочный
скачи
и погружай свое весло
в лучи Антареса[16] в ночи.
Узри в абсурде
глубину,
гони благоразумье прочь,
в погоне настигая ночь
длиною
в тысяча одну.
Хуглар бродячий, менестрель
с душой как певчая свирель…
Шагай пешком, не чуя ног,
и знай: в грядущем, озорник,
твой след, пролегший поперек
всех троп, тропинок и дорог,
поставит критику в тупик.
Твоя судьба — не конфитюр,
но и характер — не желе.
Так вверься ветру авантюр,
доверься небу и скале,
над пропастью
давай и впредь —
канатоходь, бреди и бредь!
Броди, бродящий сок! В азарт
войди, войди, бродячий бард!
Познай себя в своей судьбе,
и завтра скажут о тебе:
«Хуглар, трувер и менестрель
с душой как певчая свирель, —
он на раскрестьях
всех дорог
оставил след…
Он зяб и мок,
но все же брел он, наг и нищ,
минуя сытость
городищ…»
Грустная баллада-псалмодия в духе покаяния
После буйства алкоголя,
после изобилья хмеля
всякий раз
скорбь, над ухом колоколя,
вместо прежнего веселья,
входит в нас.
Дух забулькавшей бутыли
говорил мне: «Остров Туле[17]
будет ваш!»
С Туле вновь меня надули!
Мне, бутыли, опостылел
ваш витраж!
Я, поверя в парус хмеля,
не заботился о киле,
ну и вот,
киль мой напрочь съели мели
и, от цели в целой миле,
я — банкрот!
Уж не эти паруса ли
вдохновение сулили
во хмелю?
д подсунули сусали
вместо золота мне… Или
я юлю?
Мне сирены хмеля пели:
«Чтоб создать шедевр на деле,
нужен ром.
Гениален ты, доколе
ценишь дружбу алкоголя
ты с пером».
Свет сошелся клином, что ли,
на коварном алкоголе?
Ну, едва ль.
убираю парус хмеля,
ибо этот пустомеля
лгун и враль.
Струны на моей виоле!
Алкогольной канифоли
вам не знать!
Не по воле алкоголя
выхожу один я в поле
воевать.
Во хмелю я так едва ли
вам сыграю
на свирели.
Будьте трезвыми, рояли,
рифмы, мысли,
акварели
У меня!
Хватит хмеля вам
в бемоле,
в птичьей трели
и в глаголе,
в баркароле
в роще, в поле,
в свете дня!
Мораль
В ореоле алкоголя
кажется изящней, что ли,
всякая строка.
Но по истеченье хмеля
в ней видны сучки и щели,
и берет тоска.
Что ж, тоска надежней хмеля:
раз тоскуешь, значит, к цели
близок ты вполне,
ибо — вот вам суть морали —
больше истины в печали,
нежели в вине.
Баллада о море, которого я никогда не видел, написанная разноразмерными строками
Не видели еще ни разу моря
мои глаза —
два марсовых, буравящих пространство,
два светляка, блуждающих в ночи,
в излучинах космических пучин,
стальные очи викинга:
в их взгляде
клубится ужас обморочной пади, —
мои глаза,
питомцы вечных странствий
в пространстве звезд,
в лазоревом просторе,
не видели еще ни разу моря.
Его лучистая, излучистая зыбь
мою мечту ни разу не качала.
Призывный плач сирен не слышал я…
Вся в ртутных высверках,
морская чешуя
мои глаза
не жгла слепящим жалом.
Меня еще ни разу не глушили
набат штормов
и штилей тишина:
крутая циклопическая ярость,
а вслед за ней — безмолвная усталость,
когда внезапно, утомясь от бурь,
оно лощит серебряные блики,
кропя луной сапфирную лазурь…
Я пил взахлеб
медвяный аромат
любимых локонов и лебединой шеи,
я столько раз вдыхал весенний сад
грудей, белее лепестков лилеи,
я жег в курильницах таинственный сандал,
нирвану обещающий…
Я часто
такими благовоньями дышал,
что и не снились магам Зороастра![18]
Но я не знаю запаха восхода,
набухшего соленой влагой йода.
Мои запекшиеся губы
не холодило пенное вино
морской волны…
Мои запекшиеся губы,
спаленные желаньем звука трубы,
сожженные пустыней жажды губы
не пенящейся брагою волны —
вином любимых губ опьянены!
Я брат бродячим белым облакам.
Брат облакам,
поющим парусами
летучего голландца…
Все это вместе сплавили во взоре
мои глаза,
не видевшие моря,
не видевшие моря
никогда.
Чудакам,
гонимым зачарованно ветрами,
мятущимся, задумчивым умам,
плывущим в одиночестве над нами.
Я странник полночи,
я старый мореход,[19]
бортом судьбы
о рифы ночи тертый.
Саргассовы моря ее
и фьорды
пронзил до дна
светящийся мой лот.
А вы, мои сомнамбулические сны!
Вы — корабли, разбитые о скалы,
запутанные карты и корсары,
хмельная прихоть зреющей волны!
Мои глаза —
скитальцы во вселенной,
извечные паломники ночей, —
тишайших, бальзамических ночей,
трагических,
тоскою рвущих вены…
На дне моих мифических очей —
осколки затонувших сновидений:
виденья
наслаждения и пени,
смертельной боли
скрюченные тени,
и призрак мщенья, жаждущий прощенья,
и — в пропасти — высокая звезда,
и свет любви, замешенной на горе…
Все это вместе сплавили во взоре
мои глаза,
не видевшие моря,
не видевшие моря
никогда.
Рондели[20]