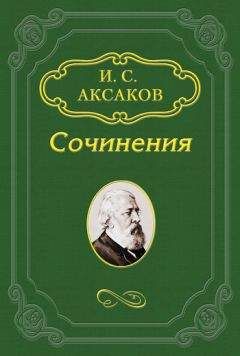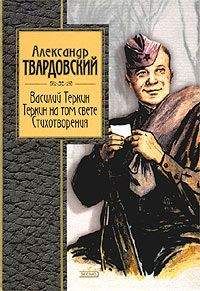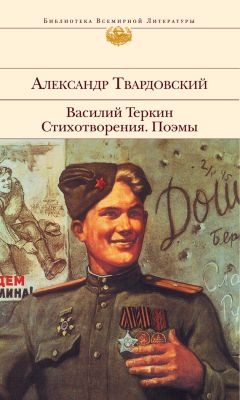Александр Твардовский - Василий Тёркин
Особая, «фронтовая» судьба поэмы, создававшейся с учетом потребностей дня и печатавшейся по главам, по мере их готовности, в фронтовой печати (причем Твардовский некоторое время, и даже, по-видимому, не один раз, считал поэму уже законченной, а потом продолжал ее снова) — наложила на произведение свой отпечаток; оно, несомненно, стало бы более цельным, если бы все писалось после событий и публиковалось сразу. Именно в этом смысле можно понимать слова Твардовского:
И хотя иные вещи
В годы мира у певца
Выйдут, может быть, похлеще
Этой книги про бойца, —
Мне она всех прочих боле
Дорога, родна до слез…
Думается, что и для читателя эта особенность произведения — следствие исторической необходимости и особых обстоятельств создания книги, о которых нельзя не помнить, относясь к «Василию Теркину» как к литературному памятнику, — так же дорога. В поэтическом наследии А. Твардовского она превосходно восполнена его следующей, значительно более «литературной» поэмой — «Дом у дороги» (1942-1946) — образцовым произведением в смысле законченности и цельности.
В то же время, именно такая форма «книги про бойца» как нельзя лучше соответствовала оригинальности и творческой свободе, с которыми она была создана. — «Летопись не летопись, хроника не хроника, а именно «книга», живая, подвижная, свободная по форме книга, неотрывная от реального дела», — как писал Твардовский.94 Может быть, именно этим глубоко жизненным, несочиненным обстоятельствам и обязана своей неувядаемой свежестью «неправильная» с точки зрения ортодоксальной поэтики поэма Твардовского. Создавая произведение, поэт сообразовывался прежде всего с действительностью, а уж потом — и менее всего — с литературным каноном. Позволительно вспомнить, что столь же обескураживающими в формальном и жанровом отношении были и такие шедевры русской литературы, как «роман в стихах» «Евгений Онегин» и «поэма» «Мертвые души».
Твардовский еще до войны проявил склонность к подобной циклической форме, создавая серию стихотворений о плотнике деде Даниле. Данила — явный предшественник Василия Теркина в творчестве А. Твардовского, а в ранних редакциях «Книги про бойца» он фигурирует в качестве одного из ее героев — руководителя смоленских партизан. В повествовании о Даниле вырабатывался и стих «Василия Теркина».
Вопрос о жанровом своеобразии произведения и о его сюжете — один из самых сложных и спорных в критических оценках «Василия Теркина». Иные критики с недоверием отнеслись к заявлению самого автора об отсутствии сюжета, как к своего рода хитрости. Усматривают сюжет в идейно-нравственном возмужании Теркина, в изображении нарастающего темпа войны; некий заменитель сюжета находят в известной логике развития художественного повествования, связанной с нарастанием «мысли и чувств народных», причем образ героя становится «все глубже и масштабнее, а авторские отступления все лиричнее и проникновеннее».95 Все это в «Василии Теркине» есть; есть в поэме начало и конец. Известной заменой сюжета в «Книге про бойца» выступает хроника войны, ее перемены, ее ход. Главы, составлявшие прежде первую часть, отмечены суровым и мрачным, трагическим колоритом («Переправа»); вторая часть отражает напряженное противоборство переломного периода войны. Главы третьей части — «На Днепре», «По дороге на Берлин», «В бане» — наполнены бодростью и предпраздничным предпобедным весельем, когда
И война — не та работа,
Если праздник недалек.
Не остается неизменным на протяжении книги и ее герой — Теркин. В главе «Дед и баба», будучи старшим в передовом разведывательном отряде, он заметно более сдержан в своем поведении, чем при первом своем появлении на страницах книги, а при форсировании Днепра, под конец поэмы, он уже не только не «балагур», извергающий «вздор незаменимый» (варианты главы «На привале»), но и вовсе — «не встревал» в шутки. —
Он курил, смотрел нестрого,
Думой занятый своей.
За спиной его дорога
Много раз была длинней.
И молчал он не в обиде,
Не кому-нибудь в упрек.
Просто больше знал и видел,
Потерял и уберег.
Развитие характера, действительно, здесь просматривается. Но оно не может служить заменой сюжета в обычном смысле. Надо верить А. Твардовскому, подтвердившему эту мысль и в статье «Как был написан «Василий Теркин»: сюжета в обычном смысле в его произведении, действительно, нет, и даже календарь событий не всюду выдержан. Есть только некоторые сюжетные связки: встреча с танкистами, которые, как выяснилось, некогда доставили раненого героя в санбат; история с шапкой девушки-санитарки. Эти сюжетные эпизоды способствуют сцеплению глав «Теркин ранен», «Гармонь», «О потере». Другая сюжетная линия, связанная с образом генерала, намечается в главах: «Кто стрелял?», «Генерал», «Теркин пишет».
Однако событийное, сюжетное в этом произведении не так важно; «Книга про бойца» замечательна другим.
Как феномен искусства, «Василий Теркин», вероятно, и не может быть интерпретирован с точки зрения формы с абсолютной бесспорностью. Интересное истолкование поэмы предложила, О. Ф. Берггольц, определившая произведение как лирическую поэму, главное значение которой не в Теркине и не в описании военных действий самих по себе, а в тех мыслях и чувствах, в философии и нравственности, которые породила война прежде всего в авторе поэмы и в очень близком к нему ее герое — Теркине.96 Содержание, «социальный заказ» и беспрецедентные внешние условия создания вещи обусловили в «Василии Теркине» новаторство литературной формы. Все перечисленные элементы находятся в произведении Твардовского в полном соответствии.
Органическая демократичность поэмы, изображение в ней основного труженика войны — рядового солдата-пехотинца, потребовали дробного плана с быстрой сменой кадров не слишком широкого захвата: форсирование безымянной реки; крестьянский дом, оказавшийся в зоне боевых действий; безвестный «бой в болоте» за ничем не примечательный, да и не существующий уже более населенный пункт с нарочито безличным названием: Борки; эпизодическая встреча с некоей «бабкой» «по дороге на Берлин», баня, — все это периферия войны, почти демонстративная, нарочитая приземленность, камерность, в немногих случаях прерываемая изображением генерала — «владыки боя», или общей картиной всего огромного фронта, опоясавшего страну, взятой в совершенно ином масштабе:
Где-то лошади в упряжке
В скалах зубы бьют об лед.
Где-то яблоня цветет,
И моряк в одной тельняшке
Тащит степью пулемет…,
Этот масштаб изображения эпохальных событий художественно оправдан в произведении о «бойце»; автор об этом знает и с нарочитым лукавством в вариантах поэмы пытается извиниться перед читателем за то, что, рисуя форсирование Днепра, он, «вдруг голос потеряв»,
Уследил едва за взводом
И свернув куда-то вбок,
Обошелся эпизодом…97
Вся война превосходно показана в «Книге про бойца» именно такими «эпизодами», выразительность и ёмкость которых очевидны для каждого не глухого к искусству.
«Искусство, как это давно установлено, не всегда нуждается в исчерпывающей всесторонности и всеобъемности охвата жизненных явлений, — писал А. Твардовский в статье «По случаю юбилея», — было бы верно схвачено и ярко выражено то, что оказалось в «секторе обзора» художника: оно непременно будет соприкасаться с тем, что находится за пределами этого сектора».98 В истории литературы многие скромные изображения частных ситуаций и уголков действительности проецировались на крупные планы и становились значительными вехами в изображении жизни вообще.
Это в полной мере относится к книге Твардовского, как и к следующей его поэме — «Дом у дороги», где на примере одной семьи, без самодовлеющих батальных сцен и боевых эпизодов — изображена поистине «судьба народная» в великой войне и драматизм исторических событий передан с большой силой.
«Василий Теркин» — произведение большой исторической емкости. Эпохальность, глобальность, величие войны, ведущейся «ради жизни на земле», постоянно ощущается как столкновение «обоих полушарий». Величие ее в разрезе времен подчеркивается, с одной стороны, упоминанием тысячелетней истории России, а с другой — предвидением «иных годов», когда будущий человек археологически вновь откроет следы этих боев и сложит о них новые песни.
* * *
Литературные качества книги Твардовского неоценимы. Ее отличают удивительная, почти зримая образность, психологическая убедительность, точность художественной детали, выразительность речевая. Работая над поэмой, автор «представлял себе во всей натуральности» (стр. 244) боевые действия, и именно от этого его изображение также получилось «во всей натуральности». Наглядно, с кинематографической выразительностью передается динамика боя: