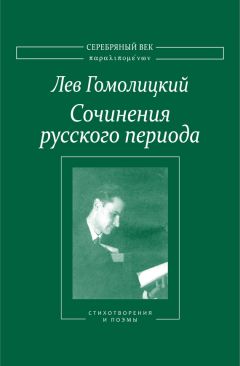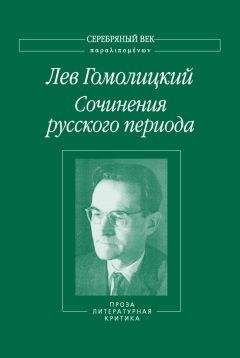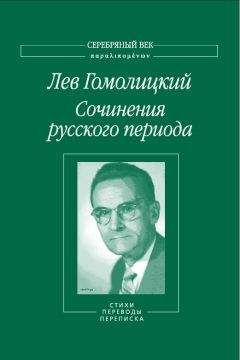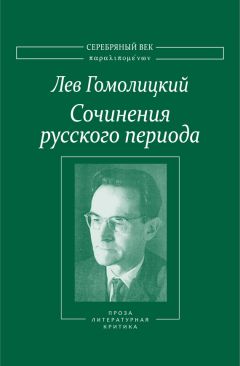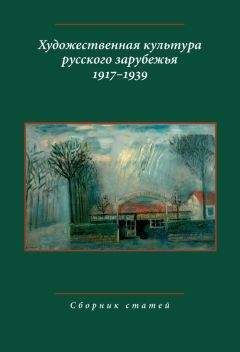Лев Гомолицкий - Сочинения русского периода. Стихотворения и поэмы. Том 1
Летом 1935 г. у Гомолицкого установились непосредственные связи с Антонином Ладинским и Владимиром Смоленским. Этих парижан он выделил в своей статье «Свобода и лира»455, имевшей «программный» характер и написанной еще до выхода антологии Якорь. Он подчеркивал в них независимость от «монпарнасских» установок и наглядное опровержение толков о «кризисе поэзии». Он считал, что оба они переживают сейчас «знаментальный перелом», превращаясь из «созерцателей» в «деятелей». В Ладинском Гомолицкий приветствовал переход от метафизических тем к исторической проблематике и связанное с этим возвращение русскому стиху «эпического достоинства». Формулируемые в статье определения даны были, конечно, скорее «авансом», чем являлись точными и детальными характеристиками. Автор сам признавал, что его утверждение о «действенности» новой поэтической позиции Вл. Смоленского фактически базируется лишь на двух четверостишиях двух отдельных стихотворений.
Литературная жизнь в Зарубежье в середине 1930-х гг. была в значительной мере окрашена подготовкой приближавшегося пушкинского юбилея. В качестве секретаря Союза писателей и журналистов Гомолицкий принимал ведущее участие в организации пушкинских торжеств в Варшаве. Вместе с тем он оказался вовлечен в монументальную работу, предпринятую Тувимом по переводу поэзии Пушкина на польский язык. Сталкиваясь с неразрешимыми дилеммами и непреодолимыми трудностями в этой работе456, польский поэт позвал его себе на помощь. Погружение в Пушкина вместе с Тувимом, совместное обсуждение тонкостей толкования и разбор альтернатив, встававших в ходе перевода, заставляли Гомолицкого по-новому воспринимать пушкинские произведения. Признание об этом содержится в его статье, посвященной книге Тувима, вышедшей в январе 1937 года:
И странная вещь, когда, русский, читешь эти переводы,– пушкинская речь звучит вновь очищенная, полномерная, точно вся эта пыль полувнимания, осевшая с детства на страницы хрестоматий и полных собраний сочинений, слетела с них от прикосновения польского поэта. Слова, мимо которых стократно проходили, звукосочетания, ставшие «дарвалдаем» (Белый), внезапно возвращаются из прошлого, полные глубины и значения. Мы слишком долго смотрели в мир Пушкина, так долго, что перестали замечать его явления и красоты. Тувим, как волшебник, показывает нам его снова во всей начальной неожиданности, найдя для того вторые слова на другом языке457.
Эффект магического «воскрешения» по-новому ставил вопрос о месте «пушкинского» начала в русской литературе. В юбилейной статье «Две тени милые» разговор о Пушкине был слит с разговором о Блоке. На деле Блок был для Гомолицкого с юности гораздо более близкой фигурой. При том что статья может показаться полной пустых трюизмов и праздничной риторики, разговор введен в русло тем, преследовавших Гомолицкого в ту пору (общение мертвых с живыми, судьба «мертвого языка»), и опирается на народно-мифологические представления: «Еще в прошлом столетии могло казаться, что Пушкин стал залетейской тенью. Ныне мы знаем, что он жив вещею жизнью мертвеца, существование которого длится очищенным нарастающим бытием, – влиянием на живущие, сменяющиеся поколения»458. Удивительной «тайной» представляется ему то, что вся русская литература, выросшая после смерти Пушкина, превратилась в «комментарий» к нему. Самого же Гомолицкого в Пушкине притягивало не классическое, солнечно-гармоническое, а темное, фантастическое начало, не «логос», а «хаос», «борьба с демонами», которые он находил также в Блоке и у Евагрия в «Добротолюбии»459.
Одной из центральных антиномий, томивших Гомолицкого с 1920-х годов, было противоречие между тягой к формальному эксперименту, свидетельствовавшей о завороженности магией «чистого искусства», и убеждением в том, что религиозные цели стоят или должны стоять выше эстетических. Первое было главным творческим импульсом в поэтической практике, второе находило выражение в теоретических декларациях. В середине 1930-х годов в газетной полемике ситуация несколько изменилась: выход за пределы искусства ныне провозглашался Гомолицким не в сферу религии, но в сферу общественной борьбы. В этом отношении фигура Пушкина была безразличной для него: не принимая подхода к Пушкину как к адепту чистого искусства, он не придавал, однако, никакого значения и «общественным» сторонам пушкинского творчества. Та проповедь общественного служения, с которой он обращался к своим сверстникам в эмигрантской поэзии, находила литературные прецеденты и образцы не в Пушкине, а в поэзии XVIII века. «Против Пушкина» работало и усиливавшееся у Гомолицкого в ту пору убеждение в необходимости в поэзии затрудненного языка. Здесь крайняя, фанатическая «архаистичность» сливалась с теоретической легитимизацией заумного («иерусалимского») языка.
Вопрос о новаторстве поэтического языка и определении специфики поэтического языка современной эпохи находился в центре статьи, ставшей первым литературно-критическим выступлением Гомолицкого в польском журнале Kamena (сентябрь 1935). Оно было посвящено двум старшим поэтам-современникам, Цветаевой и Пастернаку, осуществившим значительное усложнение поэтической речи в пост-футуристический период, и было первым развернутым высказыванием Гомолицкого об этих поэтах460. Признавая за Пастернаком и Цветаевой гениальные достижения, статья в то же время не признавала за ними «новаторства» на том основании, что эпоха крайних экспериментов завершилась перед войной, тогда как затем наступило интенсивное освоение всего прошлого наследия русской поэзии. Новизну поэзии Пастернака, в творчестве которого ощутим личный опыт художника-живописца и музыканта, Гомолицкий усматривал в синтаксисе и особенно в словаре, в органическом слиянии архаических и разговорных выражений461. Если Пастернак своей поэтики, отличной от традиции, не создал, у Цветаевой своя собственная поэтика возникла – она родилась из детских впечатлений от нот вокальной музыки и способов использования в ней слова. Стихи ее основаны не на существующих, классических метрах, но на ритме, воспроизводящем «хоровые и танцевальные мотивы». Оба персонажа в статье представали, так сказать, «экстерриториально», вне зависимости от принадлежности к советской или к эмигрантской литературе.
Но ближайшие события литературной жизни заставили Гомолицкого поднять разговор в Мече о специфических чертах советской поэзии и советской литературной реальности в ее противопоставленности эмигрантской культуре. Обратился он к этой тематике в переломный момент в советской жизни, обозначенный «дискуссией» о формализме, поднятой в Москве 10 марта 1936 по команде властей. Статья Гомолицкого «Поход на метафору» была откликом на появление официальных материалов в советской прессе о первом же дне дискуссии. Статья представляла собой попытку понять происходившие процессы в широком контексте послереволюционного периода462. Начатую кампанию он расценил как направленную против принципов футуризма, в которых он видел родство с сюрреализмом во Франции. В обоих случаях революционеры в искусстве тяготели к левому флангу в политике, но если французские коммунисты отвергли сюрреалистов, нажив себе в их лице заклятых врагов, то советские большевики в первые революционные годы отказаться от поддержки футуристов не могли. Только таким «романом» между большевиками и русскими футуристами можно, по мнению Гомолицкого, объяснить странное положение Бориса Пастернака. Пореволюционный футуризм в поэзии Гомолицкий при этом целиком сводил к «утонченнейшим приемам метафорического стиля», простым советским читателям, конечно, недоступного. Маяковский первым понял «необходимость снижения художественного уровня искусства» и «в угоду этому он сломал свой талант». Ныне советская печать начала беспощадное гонение на новаторство, требуя ломки стиля. Но для сложившихся художников, заявлял Гомолицкий, «отказ от выработанного стиля равен смерти», и это заставляло ожидать от происходивших в Москве событий судьбоносных для литературы перемен. Сославшись на выдержанные в угрожающем духе репортажи в газетах Правда и Известия о первом дне собраний в Москве, когда с установочным докладом выступил руководитель Союза писателей В.П. Ставский, Гомолицкий обратил внимание на то, что «проработке» подверглись в первую очередь поэты, выросшие на «сюрреалистическом, метафорическом стиле» – Дмитрий Петровский и Семен Кирсанов. Главной загадкой для него, однако, являлась судьба Пастернака в новой, угрожающей ситуации – о нем на тот момент советская пресса не проронила ни слова. Уже в очередном номере Меча появилась заметка Гомолицкого «Творческая судьба Пастернака»463, в которой сообщалось о двух выступлениях Пастернака на прениях в Москве (из которых второе Гомолицкий, следуя официальной советской версии, счел «покаянным») и об отпоре, данном поэту В. Кирпотиным. В этом контексте он упомянул пастернаковские стихи, напечатанные в недавнем, новогоднем номере Известий: «Больно читать эти вирши, подписанные именем поэта, единственного в СССР до последнего времени еще сохранившего свободный и чистый голос», процитировав фрагмент из первого из них, но, видимо, не обратив внимания на второе, главное («Мне по душе строптивый норов»), или не поняв его смысл. В любом случае остается неясным, понадобилась Гомолицкому ссылка на газетные стихи Пастернака для обличения его или, напротив, задачей его была попытка сдержать гонения на поэта.