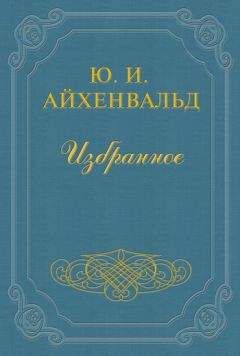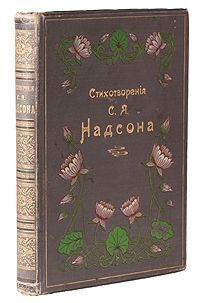Семен Надсон - Полное собрание стихотворений
Сентябрь 1884
В. П. Г-вой*
Итак, я должен вас приветствовать стихами…
Пред кем-нибудь другим в тупик бы я не стал:
Не трудно расцветить красивыми словами
Бездушный и пустой салонный мадригал.
Не отличит толпа порывов вдохновенья
От мертвой беглости ремесленной руки
И всё простит певцу за гладкое теченье,
За звон и пестроту рифмованной строки.
Но вам – что вам сказать? Нет, вас не отуманит
Ни лести сладкий чад, ни плавность звучных строф;
Искусственный цветок лукаво не обманет
Того, кто раз дышал прохладою садов.
Простой лесной жасмин, – но свежий и росистый, –
Он предпочтет всегда сработанным нуждой
Гирляндам пышных роз, из кисеи душистой
Сплетенным в сумрачной и пыльной мастерской.
Вот почему твердить обычных пожеланий
Я не хочу… Зачем? Не властен мой привет
Спасти от тяжких бурь, невзгод и испытаний
Ваш полный юных сил и радостный расцвет.
Но для себя зато теперь я пожелаю,
Чтоб на моем пути, на поприще певца,
Тем песням, что, любя, я родине слагаю,
Такие ж чуткие внимали бы сердца!
Сентябрь 1884
«Испытывал ли ты, что значит задыхаться…»*
Испытывал ли ты, что значит задыхаться
И видеть над собой не глубину небес,
А звонкий свод тюрьмы, – и плакать, и метаться,
И рваться на простор – в поля, в тенистый лес?
Что значит с бешенством и жгучими слезами,
Остервенясь душой, как разъяренный зверь,
Пытаться оторвать изнывшими руками
Железною броней окованную дверь?
Я это испытал, – но был моей тюрьмою
Весь мир, огромный мир, раскинутый кругом.
О, сколько раз его горячею мечтою
Я облетал, томясь в безмолвии ночном!
Как жаждал я – чего? – не нахожу названья:
Нечеловечески величественных дел,
Нечеловечески тяжелого страданья, –
Лишь не делить с толпой пустой ее удел!..
С пылающим челом и влажными очами
Я отворял окно в дремавший чутко сад
И пил, и жадно пил прохладными волнами
С росистых цветников плывущий аромат.
И к звездам я взывал, чтоб тишиной своею
Смирила б эта ночь тревогу юных сил,
И уходил к пруду, в глубокую аллею,
И до рассвета в ней задумчиво бродил.
И, лишь дыханьем дня и солнцем отрезвленный,
Я возвращался вновь в покинутый мой дом,
И крепко засыпал, вконец изнеможенный,
Тяжелым, как недуг, и беспокойным сном.
Куда меня влекли неясные стремленья,
В какой безвестный мир, – постигнуть я не мог;
Но в эти ночи дум и страстного томленья
Ничтожных дел людских душой я был далек:
Мой дух негодовал на власть и цепи тела,
Он не хотел преград, он не хотел завес, –
И вечность целая в лицо мое глядела
Из звездной глубины сияющих небес!
1884
«Червяк, раздавленный судьбой…»*
Червяк, раздавленный судьбой,
Я в смертных муках извиваюсь,
Но всё борюсь, полуживой,
И перед жизнью не смиряюсь.
Глумясь, она вокруг меня
Кипит в речах толпы шумящей,
В цветах весны животворящей,
И в пеньи птиц, и в блеске дня.
Она идет, сильна, светла,
И, как весной поток гремучий,
Влечет в водоворот кипучий,
В водоворот добра и зла…
А я – я бешеной рукой
За край одежд ее хватаюсь
И удержать ее стараюсь
Моей насмешкой и хулой.
«Остановись, – я ей вослед
Кричу в бессильном озлобленьи, –
В твоих законах смысла нет,
И цели нет в твоем движеньи!
О, как пуста ты и глупа!
Раба страстей, раба порока,
Ты возмутительно слепа
И неосмысленно жестока!..»
Но, величава и горда,
Она идет, как шла доныне,
И гаснет крик мой без следа, –
Крик вопиющего в пустыне!
И задыхаюсь я с тоской,
В крови, разбитый, оглушенный, –
Червяк, раздавленный судьбой,
Среди толпы многомилльонной!..
1884
Отрывок («Ложились сумерки…»)*
Ложились сумерки. Таинственно мерцая,
Двурогий серп луны в окно мое глядел…
Над мирным городом, дрожа и замирая,
Соборный колокол размеренно гудел…
Вдоль темной улицы цепочкой золотою
Тянулись огоньки. Но лампу на столе
Я медлил зажигать, объятый тишиною,
И сладко грезил в полумгле.
Я грезил, как дитя, причудливо мешая
Со сказкой – истину, с отрадою – печаль,
То пережитое волшебно оживляя,
То уносясь мечтой в загадочную даль…
Но, что б ни снилось мне, какие бы виденья
Ни наполняли мрак, стоящий предо мной, –
Везде мелькала ты – твой взгляд, твои движенья,
Твои черты, твой голос молодой.
И видел я, что смерть летает надо мною,
Что я лежу в бреду, – а ты ко мне вошла
И нежной, тонкою, холодною рукою
Коснулась моего горячего чела…
1884
В глуши*
Горячо наше солнце безоблачным днем:
Под лучами его раскаленными
Всё истомой и негой объято кругом,
Всё обвеяно грезами сонными…
Спит глухой городок: не звучат голоса,
Не вздымается пыль под копытами;
Неподвижно и ярко реки полоса,
Извиваясь, сквозит за ракитами;
В окнах спущены шторы… безлюдно в садах,
Только ласточки с криками носятся,
Только пчелы гудят на душистых цветах,
Да оттуда, где косы сверкают в лугах,
Отдаленные звуки доносятся…
Я люблю эту тишь… Я люблю над рекой,
Где она изогнулась излучиной,
Утонувши в траве, под тенистой листвой,
Отдохнуть в забытьи утомленной душой,
Шумной жизнью столицы измученной…
Я лежу я смотрю… Я смотрю, как горит
Крест собора над старыми вязами,
Как река предо мною беззвучно бежит,
Загораясь под солнцем алмазами;
Как пестреют стада на зеленых лугах, –
Как луга эти с далью сливаются,
С ясной далью, сверкающей в знойных лучах,
С синей далью, где взоры теряются;
И покой – благодатный, глубокий покой
Осеняет мне грудь истомленную,
Точно мать наклонилась в тиши надо мной
С кроткой лаской, любовью рожденною…
И готов я лежать неподвижно года,
В блеске дня золотисто-лазурного –
И не рваться уж вновь никуда, никуда
Из-под этого неба безбурного!
1884
«Не знаю отчего, но на груди природы…»*
Не знаю отчего, но на груди природы –
Лежит ли предо мной полей немая даль,
Колышет ли залив серебряные воды,
Иль простирает лес задумчивые своды, –
В душе моей встает неясная печаль.
Есть что-то горькое для чувства и сознанья
В холодной красоте и блеске мирозданья:
Мне словно хочется, чтоб темный этот лес
И вправду мог шептать мне речи утешенья,
И, будто у людей, молю я сожаленья
У этих ярких звезд на бархате небес.
Мне больно, что, когда мне душу рвут страданья
И грудь мою томят сомненья без числа, –
Природа, как всегда, полна очарованья
И, как всегда, ясна, нарядна и светла.
Не видя, не любя, не внемля, не жалея,
Погружена в себя и в свой бездушный сон, –
Она – из мрамора немая Галатея,
А я – страдающий, любя, Пигмалион.
1884
«Наше поколенье юности не знает…»*
Наше поколенье юности не знает,
Юность стала сказкой миновавших лет;
Рано в наши годы дума отравляет
Первых сил размах и первых чувств рассвет.
Кто из нас любил, весь мир позабывая?
Кто не отрекался от своих богов?
Кто не падал духом, рабски унывая,
Не бросал щита перед лицом врагов?
Чуть не с колыбели сердцем мы дряхлеем,
Нас томит безверье, нас грызет тоска…
Даже пожелать мы страстно не умеем,
Даже ненавидим мы исподтишка!..
О, проклятье сну, убившему в нас силы!
Воздуха, простора, пламенных речей, –
Чтобы жить для жизни, а не для могилы,
Всем биеньем нервов, всем огнем страстей!
О, проклятье стонам рабского бессилья!
Мертвых дней унынья после не вернуть!
Загоритесь, взоры, развернитесь, крылья,
Закипи порывом, трепетная грудь!
Дружно за работу, на борьбу с пороком,
Сердце с братским сердцем и с рукой рука, –
Пусть никто не может вымолвить с упреком:
«Для чего я не жил в прошлые века!..»
1884