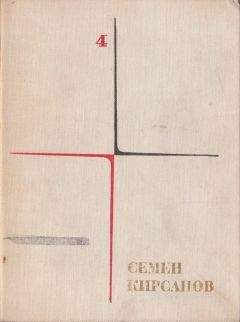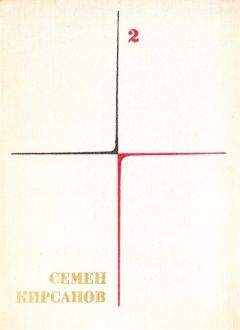Семен Кирсанов - Гражданская лирика и поэмы
Сегодня прибраны чисто казармы, и хвоей украсили койку мою. В роте празднуют день нашей Армии. Многие были со мною в бою. Помнят — с ними служил Саша Матросов. И так замечательно пел. А воздух сегодня золот и розов, и снег удивительно бел. Мой автомат почищен и смазан, защитный чехол аккуратно завязан. Висит на гвозде солдатская каска. Не выдумка это, не сказка. Так оно точно и есть. Порядки военные строги! Так, чтобы если тревожная весть, — быстро одеться и встать по тревоге. Все наготове встретить беду. И место мое не пустует в ряду…
Здесь, на границе, с автоматом, в каске,
как часовой на вверенном посту,
я вслушиваюсь в гул заокеанский,
я всматриваюсь в даль и в высоту.
Прислушайтесь, товарищи, к совету:
не потеряйте зоркости во мгле!
Нет! Разглядите издали комету,
грозящую приблизиться к Земле.
Кометчики над картой полушарья
склонились группой сумрачных теней,
руками растопыренными шаря,
карандашами черкая по ней.
Мой враг опять уселся в кресло плотно,
и новый чек подписывает он
под треск и визг сумятицы фокстротной.
«Война!» — он говорит в свой диктофон.
Горящими крестами ку-клукс-клана
он жаждет наши озарить холмы
и ставит стрелы гангстерского плана
там, где свой дом отвоевали мы…
Донецких недр горючие глубины,
азовской солью пахнущий Ростов,
днепровские могучие турбины,
пунктирный ряд Курильских островов;
Памир, еще не понятый и дикий,
Алтая неизмятую траву,
Узбекистана чистые арыки
и сердце мира — Красную Москву;
и солнце в ослепительном зените,
и тишину священнейших могил —
все,
что имеем, —
грудью заслоните,
как я своей однажды заслонил!
Я не даю совета: грудью голой.
Во имя жизни это сделал я!
Вы ж выдумайте твердый и тяжелый,
надежный щит советского литья.
Прикройте землю броневою толщей,
ее мы будем плавить и ковать!
Хочу, чтоб вам
не приходилось больше
телами амбразуры закрывать.
Скоро у вас,
живых,
стянутся раны.
Осуществите
вы
партии планы.
Будете продолжать
путь,
что война прервала,
красные
водружать
флаги
на перевалах.
Будет у вас
жизнь
необычайной!
Сблизят
глаза линз
с звездною тайной.
Войны
уйдут вдаль,
в древние мифы.
Кончатся
навсегда
гриппы и тифы.
Что вам года,
что́,
времени пристань?
Будете жить —
сто,
двести и триста!
Ночи и дни
встречать
юношескими глазами,
дождь или снег
включать
и выключать сами.
Будет светлеть
мир
после пожарищ!
Будет расти
вширь
слово «товарищ!».
Будете
создавать
новую сушу,
творчеству
отдавать
смелую душу!
И глубиной
глаз,
рифмой поэта —
будете
помнить
нас,
живших для этого!
Какое глубокое, чистое небо! Ясная, нежная голубизна! Высоких-высоких домов белизна! Из булочных валит запахом хлеба. Читальни наполнены шелестом книг. Там, среди них, мой дневник. И так обещающи строфы про счастье! Но — надо прощаться… День только-только возник… Товарищи! Мир еще на рассвете. Сколько дела на свете! Сколько надо земли перерыть, сколько морей переплыть! Сколько забот новичкам в комсомоле: перелистать все тома, на ямах воронок поставить дома, разминировать полностью каждое поле! Сколько работы в жизни, на воле! Сеять, жать, столярить, слесарить, ледоколами взламывать лед, арбузы растить в полярной теплице, ракетами взвиться в сиренево-синий полет. Все разгадать в Менделеевской таблице. Уйма работы везде, кипучей и трудной: уран замесить на тяжелой воде, застроить домами степи и тундры. Равнины лесами одеть. Вытопить мерзлые грунты. Засыпать в амбары горы зерна. И выковать Родине щит неприступный — в миллионы тонн чугуна!.. На вас я надеюсь. Можете. Справитесь. Исполните все на «ять»! Подтянете к пристаням флот паутиною тросов. Эх! Как бы хотел комсомолец Матросов с вами в одной бригаде стоять!
Смиряется и тихнет бурный ветер,
теплеет мирный человечий кров.
Все к лучшему, я думаю, на свете,
здесь, на планете, в лучшем из миров.
В пещерный век, в эпоху льдин и ливней,
беспомощных, неоперенных, нас
мохнатый мамонт подымал на бивне
и хоботом неукрощенным тряс.
Жилища мы плели, перевивая
тугие стебли высохших лиан,
и гнезда наши, хижины на сваях,
срывал неумолимый ураган.
Но человек не сдался. Вырос. Выжил.
Отпрянул зверь, и устрашился гад.
И мы из тьмы шатающихся хижин
пришли под своды гордых колоннад.
И тигры, что в тропической засаде
высматривали нас из-за ветвей,
теперь из клетки в пестром зоосаде,
мурлыча басом, веселят детей.
Столетия мы были крепостными,
на рудники нужда ссылала нас.
В жаре литейных, в паровозном дыме,
в глубинах шахт мы сплачивались в класс.
Нас на кострах сжигали, гнали в ссылку,
ковали в цепи, каторгой моря,
но слабую подпольную коптилку
раздули мы в пыланье Октября.
Нас рвал колючей проволокой Гиммлер
и землю с нашей смешивал золой —
но человек не сдался, он не вымер,
он встал над отвоеванной землей.
Он бьет киркой по толще каменистой
грядущим поколениям в пример,
и, самый молодой из коммунистов,
«К борьбе готов!» — клянется пионер.
И жизнь-борьба нам предстоит большая
за самый светлый замысел людской,
и мы приходим, к жизни обращая
глаза, не помутненные тоской.
Какая б тяжесть ни легла на плечи,
какая б пуля в ребра ни впилась —
вся наша мысль о счастье человечьем,
о теплоте товарищеских глаз.
Когда вам было страшно и тревожно
и вы прижались к холоду земли,
я говорил вам строго: «Нужно! Должно!» —
и вы вперед моей тропой ползли.
Мое в атаках вспомнится вам имя,
и в грозный час, в последнюю пургу
вы кровь свою смешаете с моими
кровинками на тающем снегу.
Так я живу. Так подымаюсь к вам я.
Так возникаю из живой строфы.
Так становлюсь под полковое знамя —
простой
советский мальчик
из Уфы.
МАКАР МАЗАЙ
Поэма (1947–1950)
Свеж и чист апрель.
Бьют часы на Спасской.
День прошел —
и Кремль
облит яркой краской.
Над багрянцем туч
встал Иван Великий,
и не сходит луч
с флага, что на ВЦИКе.
Месяц занял пост
под вечерним сводом.
Москворецкий мост
врос быками в воду.
Старый, бывший мост,
узкий и горбатый.
Кремль еще без звезд.
Год — двадцать девятый.
Звон уже стихал…
И в минуту эту
вдруг два пастуха
вышли к парапету.
Шапки мнут в руках,
удивились сами,
что вокруг —
Москва!
Кремль перед глазами!
Я узнал потом,
что в столицу с юга
поезд со скотом
шел,
и в нем два друга.
И один из них —
парень из станицы —
в памяти возник,
ожил на странице…
В сумерках потух
день Москвы тогдашней,
и слушает пастух
звон на Спасской башне.
Будто вдаль плывет
на мосту далеком,
и в жизнь
его зовет
свет кремлевских окон.
А ему — земляк:
— Что тебя тревожит?
Во дворце Кремля
еще ждут нас, может…
…И стоял Мазай
на мосту далеком,
и смотрел в глаза
освещенных окон.
Свет горел в Кремле.
Шел апрельский Пленум.
Час настал —
Земле
мчаться к переменам.
Час настал —
скорей
пересесть России
на стальных коней
крупной индустрии
и, меняя строй
всей народной жизни,
стать
стальной страной
при социализме.
…И стоял Мазай
на мосту далеком,
и смотрел в глаза
освещенных окон.
Пленум был за то,
чтоб, войдя в артели,
шел народ простой
к величавой цели!
Чтоб в расплаве руд,
у фабричных зарев
превратился
труд
в радость всех Мазаев.
Чтоб и жизнь себе
сделать ярче, шире
и поддержать в борьбе
братьев
во всем мире!
…И стоял Мазай
на мосту далеком,
и смотрел в глаза
освещенных окон,
где дыханье бурь
проносилось в зале,
где его судьбу
в эти дни решали.
…Он стоял — пастух.
И, как стих пролога,
началась вот тут
в жизнь
его дорога.
Небо — синий купол.
Море серебрится.
Город Мариуполь
весь под черепицей.
Крыши, крыши, крыши…
А вдали, повыше,
трубы задымили,
искры над печами,
домны заломили
руки над плечами.
Варят сталь мартены,
горячи их стены,
и летит оттуда
сажа от мазута.
В цехе из-под крышек
пламя так и пышет!
Сталь лежит живая,
взглядом обжигая.
Людям на заводе
горячо живется,
а завод в народе
«Ильичем»
зовется.
На заводе этом,
плавками прогретом,
есть один подручный —
с книгой неразлучный.
И об этом парне
шум по сталеварне:
— Шибко очень ходит!
Места не находит.
— Как на него «находит»,
все плохим находит!
— Пристает:
«Отстали!
Мало варим стали!»
Мол, трех не хватит этак
полных пятилеток!
Руки в шаровары,
и — заводит первый:
«Думал — сталевары,
а вы, мол, староверы!»
Тешится над нами,
кличет «колдунами».
Неудобно как-то —
паренек без такта.
Но работать может,
дела не отложит,
быстротой поможет.
Лишь кивни —
подложит
марганца ли, хрома, —
все ему знакомо!
Среди комсомольцев
он знаток в железе,
с синеньким стекольцем
чуть не в пекло лезет.
Печка — вроде солнца,
пламенем
как жахнет!
Смуглый, он смеется,
робости в глазах нет!
С пламенем он в паре,
в копоти, как ворон.
Посмотреть —
так парень
сам огнеупорен.
На затылке кепка,
слово скажет — крепко!
Есть грешок: задирист,
в споре — перетянет.
Но где бы ни сходились,
сердцем
к себе тянет,
тянет, как магнитом.
И складно говорит он.
Вообще проворный:
— Нормы? Что мне нормы?
Мне бы всей стране бы!
Мне во все бы небо
печку бы построить,
цех переустроить!
С кем-нибудь повыше
мне поговорить бы,
аж до самой крыши
стали наварить бы!
Все в цеху поправить,
молодых направить!..
А частично прав ведь!
В кадрах-то нехватка,
не уйдешь от факта.
Кто такой, каков он?
Слух — из батраков он.
Честный парень, знаем.
Звать его Мазаем.
Что о нем услышим —
полностью опишем.
Стар и сед
Булатин, сталевар.
Свой секрет —
как в землю зарывал.
— Друг, открой!..—
А он в ответ — молчок.
Вот какой
старинный старичок.
Думать брось,
не подходи — гроза.
В клюкве нос
и с водочкой глаза.
Как старик
вел огневой процесс?
В сотнях книг
об этом не прочесть!
Сед и стар,
колдует в «мартыне».
А вот сталь —
первейшая в стране.
Будто ей
он знает заговор,
будто с ней
имеет договор:
«Я — тебе,
а ты за это — мне…
А теперь
понежусь я в огне.
Торопить
не надо, не терплю,
потерпи,
пока я прокиплю».
Так кипит,
что надо потерпеть!
Аппетит,
видать, у ней — кипеть…
Сед и мал,
заглянет в свой блокнот,
сталь сама
глазком ему мигнет:
«Мне пора,
смотри не прозевай.
В самый раз —
готова! Разливай!»
Хо-ро-ша!
Изгибисто, легко
в глубь ковша
течет, как молоко.
А потом
в прокатный цех, гремя,
вдаль хвостом
пойдет вилять, змея.
Мал собой
и говорок на «о»,
рад седой —
секретик у него:
— Тем секрет,
что в нем запрет, хорош.
Снял запрет,
и от секрета грош.
Есть секрет —
и сталь моя добра.
Делал дед,
и прадед, и прапра…
Прадед — меч
для князя отковал,
вот и с плеч
слетела голова,
чтоб меча
второго, как его,
не встречать
в бою ни у кого!
Дед ковал
рессоры для цариц,
сталь давал
из сыродутных криц,
а отец,
покой его душе,
свой конец
обрел вон в том ковше.
Было встарь…
Имеется рассказ:
прозвал царь
«Булатиными» нас.
За клинок
не пожалел наград!
Мы, сынок,
розмыслили булат…
Пусть на ложь
рассказец-то похож —
не тревожь,
рассказчика не трожь!
Сед и стар,
старик дружил с огнем.
И Макар
подручничал при нем.
Он решил
спросить у старика…
Накрошил
в закрутку табака.
Встал Мазай
и начал говорить.
— Я, — сказал, —
хотел бы сам варить!
Что я, зря
вечерний курс прошел?
Что я, зря
уже во вкус вошел?
Дай, поставь,
горит моя душа —
выдать сталь
из моего ковша.
Жить в огне,
как сталевар, хочу!
Это мне,
Булатин, по плечу.
Но старик
с усами был и сам.
Не привык
к подобным голосам.
— По плечу? —
Булатин говорит. —
От причуд
душа твоя горит.
Что до книг,
то книгой не помочь,
отпихни
ты их скорее прочь!
Вот когда
твой побелеет чуб,
вот тогда
и будет «по плечу».
Дел на грош,
зеленый, а бурлишь.
Печь сожжешь,
а может, закозлишь?
Так да сяк,
недоглядишь — беда!
В яму вся
уйдет твоя бурда.
Ты, мой свет,
обзаведись отцом.
Пусть секрет
отдаст перед концом.
Заруби
на лбу своем, Макар.
Не греби
чужою ложкой жар!
Как золой
посыпан, старый черт!
Скрытный, злой
булатный старичок.
Колдуном
стоит перед огнем,
ходуном
гуляет свет на нем.
И Макар,
зубами засверкав,
ложку в жар
сует для старика!
Удалые жители
в новом общежитии!
Только что построено
трестом Юждонстрой оно.
И дом,
хоть не фасонистый,
выстроен по совести.
Тут живут товарищи,
от печей поджаристы.
Страстные, вихрастые,
если спор — пристрастные.
Но важно, что не праздные
и песни знают разные.
Всюду — комсомолией
время потороплено.
Стенгазета «Молния»
на стене прикноплена.
Коек десять в комнате.
Было так, вы помните?
Кто уснул — не движется,
а кто читает книжицу
о сталеварении,
как стихотворение.
Кто газетой занялся,
факт серьезный вычитав,
а кто поет, как нанялся,
песню о кирпичиках,
за работой скучною
над заплатой брючного…
Тишина оборвана.
Чем-то недовольная,
входит смена полная,
как команда сборная.
Сели. Робы скинули.
Табуреты сдвинули.
— Кормят разговорами…
Если ждать, то скоро мы
станем черноморами
с бородами длинными! —
Строже брови сдвинули.
— Раз бы нас поставили
на вахту молодежную,
да колдуны поставили
крепость загороженную…
— Написать бы жалобу!
— Верно, не мешало бы.
Власть у нас советская.
Слово скажем веское,
что не подкачаем мы,
честью отвечаем мы…
Кто-то: — Ненадежное
дело молодежное…
— А я, ребята, в ярости!
Новички — до старости?
Взять хотя Мазая бы —
как он сдал экзамены!
— И зря сдавал, дружки мои.
Грузят и без химии!
Раскраснелись спорщики,
доводы их верные.
Это — закоперщики
легкой кавалерии:
— Сталь дают не спелую,
а выводов не делают.
— Сводка говорит о чем?
А что завод убыточен.
План — процентов семьдесят.
Что ж мы? Не рассердимся?
Вредное явление?
— Вредное явление.
Пишем заявление?
— Пишем заявление!
Только лист колышется…
Заявленье пишется.
А кому?
А Зайцеву
в парторганизацию.
Пишется уверенно
тем, кому доверено.
Кончили, поправили,
день и год проставили,
подписи поставили
и на лист поставили
вазочку с фигурками…
Спят, прикрывшись куртками
или одеялами,
узкими, линялыми…
Спят. Их не добудишься.
Спят. Их сны о будущем.
Замерли у стен шаги.
Спят, пока их сменщики,
ярким жаром залиты,
у печи, закапанной
шлаком.
Они заняты
перекидкой клапанов.
Там — лепешка шлепнулась,
выстрелила звездами.
Там — длиннющим шомполом
злят кипенье грозное.
Там — страда тяжелая
на струе, у желоба,
где стальное золото
в чане ходит кольцами,
где немало пролито
пота комсомольцами
наряду со старыми
сталеварами…
Ничего, товарищи,
ваше дело верное.
В новичках до старости
вам не ждать! Уверен я!
Вот уже райкомовцы
с тем письмом знакомятся,
вслух оно читается,
правильным считается,
а кто с ним не считается,
очень просчитается!
Цех любимый!
В ночь — пучки лучей.
Гул глубинный
пламенных печей.
В брызгах, в пене
гибкая струя.
Сталь — в кипенье.
Нужная. Своя.
С мыслью этой
через двор и ров
в цех нагретый
входит Боровлев.
Человек он
крупный, пожилой,
с прошлым веком
бился тяжело.
Век что омут
страшный был для нас.
Он-то помнит
фирму «Провиданс».
Помнит стачку
между двух веков,
помнит «тачку»
для меньшевиков,
тяжесть гайки,
что зажал он сам,
и свист нагайки
над лицом, и шрам…
И шапки в воздух —
в Октябре, крича:
— Дать заводу
имя Ильича.
Телом тяжкий,
с легкою душой,
вон — в фуражке,
мастер над ковшом.
Из парткома
вышел.
Говорят,
что знаком он
с жалобой ребят…
Плохо варим.
Двор еще пустой.
От аварий
что ни день — простой.
А завод-то
не бельгийский — свой.
Где ж забота,
где любовь, где бой?
Кто ж подложит
страсти в огонек?
Этот, может,
смуглый паренек?
Присмотрись-ка,
стоит предложить…
А жить без риска —
вроде как не жить.
И у пасти
с заревом по край
молвит мастер:
— Слушай-ка, Мазай,
тут Волошин
умудрился слечь.
Не возьмешь ли
на недельку печь?
Двинешь дело —
вырастет и срок.
Где неделя —
там и месяцок.
Ты, я слышал,
план придумал свой?
Случай вышел —
действуй, перестрой.
В деле этом —
нужно — помогу.
Хоть советом,
в общем, чем могу.
Жду успеха.
Будь, Макар, здоров.
И из цеха
вышел Боровлев.
Добр, участлив,
сердце — напрямик.
Старший мастер,
старый большевик…
Крутолобый,
в самой гуще дел —
он особый
к нам подход имел.
Не обидит,
но и не польстит.
Брак увидит —
другу не простит!
— Ну, Макарка, —
голоса ребят, —
с первой варкой,
магарыч с тебя!
Улыбнулся
в белых два ряда.
Подтянулся.
Горд, как никогда!
Цех любимый!
Жизнь все горячей.
Гул глубинный
пламенных печей!
Всех вы краше,
близкие мои,
люди нашей
трудовой семьи!
Как-то в парке вязовом
Пузырев рассказывал,
ножичек показывал —
блеск на нем проскальзывал.
Волос режет лезвие,
верткое и резвое!
— Вот вы, братцы, варите?
А котелком не варите.
Про булаты слышали?
А знать про них не лишнее.
Поглядев на стали те —
просто ахать станете!
Диво! Но теперь они
навсегда потеряны.
Ходит в нашей коннице
сказка о буденновце:
Бил врага он саблею
в смысле веса слабою.
Но в работе — светится,
в рубке — чертом вертится!
С ней герою (верьте — нет)
лишь победа, смерти нет!
Сабелька музейная.
Шла среди князей она.
Века два не портится.
И так дошла до корпуса.
Конь был серый, в яблоках.
Парень — будто писаный.
Вязью вниз по сабельке
вот что было писано:
«Без дела не выхватывай,
без славушки не вкладывай».
Только не загадывай,
что за сплав булатовый.
А Мазай загадывал,
что-то в печь закладывал.
Ложкой сталь выхватывал,
в душу к ней заглядывал!
За два года
(срок не очень долог)
у завода
вырос наш поселок.
Тут мы жили
жаждой дел и строек,
как пружины
вскакивали с коек,
и друг друга
поздравляли братски
с углем, с плугом,
с цехом сталинградским;
с виноградом,
что Мичурин срезал;
с водопадом
мощи Днепрогэса;
телеграммой
поздравляли, слали —
с первым граммом
сверхособой стали;
с ярким светом,
с домнами Магнитки…
И об этом
были в клубе читки.
Что ни вечер,
при шарах молочных
в клубе — встречи
молодых рабочих.
Глянешь в угол,
а в читальне клуба —
парень с книгой,
смуглый, белозубый.
Шел он с жаром
толковать с металлом,
«Сталеваром»
прозываться стал он.
С печью в дружбе,
он в огне кумекал!
Шел все глубже
в тайный мир молекул.
Но в накале
дней металлургии
жгли Макара
мысли и другие,
Близость бури
и телеграммах ТАССа…
Хрипнет фюрер
в реве «Спорт-Паласа».
Дни и ночи
дымен звездный купол,
парит, точит,
плавит фирма Круппа…
Всё мы знали,
жили не в тумане.
Так — в Макаре
крепло пониманье:
Не обгоним —
нас сомнут, затопят,
черных конниц
нас затопчет топот!
Втащат в петли
к фирмам иностранным,
сами
если
сталью мы не станем.
«Сталью станем!»
Эта мысль, пронзая,
там, в читальне,
вдруг вошла в Мазая.
Так мы жили
с мыслью о металле,
так дружили,
и дружбе — так мечтали.
Так листали
заголовки в «Правде»:
«Больше стали,
металлурги,
плавьте!»
И усталость
сразу с плеч слетала!
«Дай! —
казалось,
Родина шептала: —
Больше стали,
да получше, дай нам
на детали
тракторам, комбайнам!
Знай, без стали
не пахать весною.
Хлеб не встанет
золотой стеною!
Дай на трубы
Грозному и Эмбе —
нефть качнуть бы
в небывалом темпе!
Дай скорее
для электростанций,
пусть светлее
станет быт крестьянский!
Дай, как другу,
и ночь борьбы бессонной
нож хирургу
в операционной!
На моторы
дай для самолетов,
на повторы
дальних перелетов!
Дай поэту
с рифмой в поединке —
сталь
для этой
пишущей машинки!
Дай для прессов,
жмущих сильной лапой!
Дай для веса
орудийных залпов!
Дай России
тонны трудовые
на листы и
башни броневые!
И на толщи
Т 34 —
дай побольше
ради мира в мире!
Верим, сваришь,
дашь родному краю…»
«Дам, товарищ!» —
думалось Мазаю.
В смене каждой
вверх его взметала
страсть и жажда
творчества металла!
Осень тридцать пятого
солнце в тучах спрятала.
Лужи в Мариуполе
от галош захлюпали.
Ветер
рвется издали
к глинистым окраинам.
Море — сине-сизое,
будто сталь с окалиной.
Дождик на строения
льется
мелко сеянный,
а вот настроение
вовсе не осеннее.
В Сартане на улицах
листья лип балуются,
долетают до неба
в переулке Доменном,
мчатся мимо домика,
где сидят хозяева —
сам Макар и тоненькая
Марфушка Мазаева.
Чем, какою жаждою
сердце взбудоражено?
Новостью какой оно
обеспокоено?
Ничего не молвит он,
только сердце молотом
бьет,
сверлом вгрызается,
завистью терзается.
Завистью?
Вот именно!
Что не здесь, а около,
на «Центральной-Ирмино»,
началось, загрохало!
Был бы там —
увидел бы,
как, куски откалывая,
сто две тонны вырубил
молоток
Стаханова!
Сто две тонны! Здорово!
Гром!
Рекорд Бусыгина.
Так что жажды нового
много стало, видимо!
Будто спичка к хворосту,
к сердцу
эти новости.
Мчится с новой скоростью
поезд
кривоносовский.
Гром!
Страну обрадовали
обе Виноградовы…
Дальше, в завтра, в будущее
кличут эти новости!
Лишь у печек
тут — еще
годы девяностые…
«Мой мартен
в поду́ мал.
Плоскодонный он».
Так Макар подумал.
А что придумал он?
А он придумал вот что:
не касаясь стен,
по расчетам, точно,
углубить мартен.
«Мой мартен не ёмок.
Сталь ему по грудь.
Надо и в проёмах
придумать что-нибудь…»
И он придумал вот как
класть огнеупор:
чтоб до подбородка,
вот до этих пор…
«Мой мартен не бог весть!
Плавит не спеша.
В сутки — плавки по две.
Мало — два ковша».
И ходит он угрюмый.
Молча. Рот зашил.
Что ж Макар придумал?
Что же он решил?
«А если мы подгоним,
а если мы решим
сделать напряженней
тепловой режим?
А поднажмем, посмотрим.
Если приналечь —
вроде
плавки по три
в сутки выдаст печь.
А сейчас начну, мол,
взвешивать металл».
Сел Мазай. Подумал.
Взял и подсчитал:
«Три плюс пять… да трижды.
Ноль в уме…
Потом
плюс…
И вышло, — ишь ты! —
двести сорок тонн!
А если в месяц взвесить
плавки на весах,
дашь
семь тысяч двести,
печь, моя краса!
А если на двенадцать
помножить эти семь?
А если встать да взяться
не одному, а всем?
А если на Урале
в добрый спор со мной
встанут сталевары
к плавке
скоростной?
И эту прибыль тоже
надо подсчитать».
Ночь.
Макар, все множит
и не может спать.
И он себе представил,
будто эшелон
он на путь поставил —
весом
в миллион!
Эшелон с металлом:
на Донбассе — хвост,
а паровоз —
достал он
подмосковный пост!
И вот Москва выходит,
близкая, как мать:
этот груз,
выходит,
будем принимать?
И целует смачно!
— Сын ты мой родной!
Прибыл
с семизначной
цифрой в накладной!
«Сколько ж это выйдет
рельсовых полос,
сколько можно выдать
поршней и колес;
мощных транспортеров,
запасных частей,
авиамоторов
высших скоростей;
танков-великанов
новых образцов,
и прокатных станов,
и стальных резцов;
и еще
мартенов
заревами вдаль,
чтоб текла бессменно
сталь,
и сталь,
и сталь?..
И тогда пойду, мол,
в Кремль и лично сам —
все, что я придумал,
под расписку сдам!»
Лоб Макар нахмурил,
зубы сжал со скрипом.
Сталь, как море в бурю,
ходит крупным кипом.
До плеча залезла
в жар ручища крана,
в печку — горсть железа
кинула сверх плана.
Как железо тает,
пламенем объято,
смотрят
и мечтают
смуглые ребята.
А о чем мечтанье?
А о плавке новой,
о таком металле —
мир
не знал какого!
О Мазае-друге,
о его победе,
чтобы всех на юге
обогнал соседей!
То один к Мазаю,
то другой подходит.
Мол, не замерзаем,
плавка нам подходит.
Печь играет светом,
а к нему —
с советом —
то второй, то третий.
Печка зноем пышет.
А он
советы эти
в свой блокнотик пишет.
В ярких брызгах солнца
кружится, несется
маскарад, веселье,
свадьба, новоселье!
Закружись,
пыланье!
Тут идет гулянье
множества мильонов
мчащихся по пеклу
жаром оживленных,
пляшущих молекул.
Вот они танцуют,
вот ведут к венцу их.
Жизнь
в огне, в пожаре.
Славно новоселам!
Феррум пляшет в паре
с марганцем веселым.
Чистый хром запутав
в толпах лилипутов,
сколько их налезло,
карликов железа!
Нет конца веселью,
серу гонят в шею,
радостно частицам
в бег за ней пуститься —
ярким хороводом,
вместе с углеродом
брызгами,
грибками,
просто пузырьками.
И на эти пары,
и на изгнанье серы
смотрят сталевары,
будто Гулливеры!
Перед ними окна —
солнцеяркий глянец.
В синие их стекла
виден каждый танец.
Брызжет синей краской
пляска через край,
и над этой сказкой —
властелин
Мазай!
Вижу я,
как будто
карта на стене:
реки,
горы,
бухты,
те, что есть в стране.
Села и станицы,
полевая тишь.
Города,
столицы
с тысячами крыш.
В трех районах карты
рельс густая сеть.
Уголки, квадраты —
медь,
железо,
нефть.
А кружки в просторах
карты на стене —
города,
которых
нет еще в стране.
Чертежи — в конторах.
Домен ждет руда.
И шлет ЦК
парторгов
в эти города.
Карта! Контур жизни
завтрашней — вчерне,
и вот
Орджоникидзе
подошел к стене.
Тронул выключатель,
верхний свет зажег.
И поправил кстати
у Баку флажок.
Керчь с заботой тронул
человек,
о ком
говорят:
«С мильоном
он людей
знаком».
Смотрит, улыбаясь
в сталь своих усов:
Ейск,
Коса Кривая,
Таганрог,
Азов…
Плавни,
край озерный,
сельдь вдоль берегов…
И взгляд на кубик черный
перевел Серго.
Против ейских плавней
кубик этот вот —
славный
стародавний
сталевар-завод.
Важный, стариковский,
по годам и честь…
Но какой таковский
там парнишка есть?
Озорной, упорный,
комсомольский нрав.
А говорят:
«Не в норме».
А говорят:
«Не прав».
Требует, тревожит,
синеглаз, вихраст.
А про него:
«Не сможет».
А про него:
«Не даст».