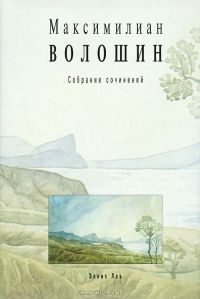Максимилиан Волошин - Том 2. Стихотворения и поэмы 1891-1931
21 декабря 1899 (2 янв. 1900)
Берлин
«Теперь сижу в Берлине я…»
Теперь сижу в Берлине я,
И очень скучно в нем.
Густые хлопья инея
Повисли под окном…
А выйду ль я на улицу –
Мне встретится студент
Со шрамом по всему лицу,
Стоит как монумент
С осанкой сверхъестественной
Торжественный жандарм…
Гирляндою божественной
Идут ряды казарм.
Здесь всё живое прячется,
Куда ни поглядишь…
«И верится, и плачется»,
И хочется в Париж.
9 января 1900
Берлин
«Люблю осенний сон аллей…»
Люблю осенний сон аллей,
Старинных парков увяданье,
В туман окутанные зданья
И дымы синие полей.
И боль разлуки мне милей
Печальных радостей свиданья.
<Февраль-март 1900
Москва>
На Дунае
Свежий ветер. Утро. Рано.
Дышит мощная река…
В дымке синего тумана
Даль прозрачна и легка.
В бесконечных изворотах
Путь Дунай прорезал свой
И кипит в водоворотах
Мутно-желтою волной.
Уплывают вдаль селенья.
Церкви старые видны,
Будто смутные виденья
Непробудной старины.
И душа из тесных рамок
Рвется дальше на простор…
Вот встает старинный замок
На скалистом кряже гор.
Эти стены, полный ласки,
Обвивает виноград…
Как глаза античной маски
Окна черные глядят.
И рисуется сурово
Стен зловещих силуэт,
Точно мертвого былого
Страшный каменный скелет…
31 мая 1900
Линц
«И бысть в Берлине велий глас…»
…И бысть в Берлине велий глас,
Подобный грому божьей бури:
«Дрожи, дракон! Иду на вас,
Чтоб приготовить путь культуре».
Сказал – и вдаль плывут суда
С священным воинством Европы,
Чтобы для правого суда
Воздвигнуть грозные окопы.
И вот восток объят зарей,
Всё небо зарево покрыло,
И над пылающей страной
Восходит с запада светило.
Свидетель грозных непогод,
Где речь достойную найти мне,
Чтобы воспеть его восход
В ликующем, победном гимне!
Свершилась воля… Пал Пекин…
Над ним висит зловещий фатум.
И представитель власти – Цин
Принял союзный ультиматум.
Пускай же, выбившись из сил,
Ведут мятеж упорный буры,
Но над Китаем уж почил
Благословенный луч культуры,
Уж их архивы сожжены,
Сожгите ж в пламени пожара
Дотла их книги: мы верны
Священным принципам Омара!
<Декабрь 1900
Ташкент>
Венер
Уж давно закат усталый,
Грустный, алый
Догорал.
И вставал в дали прозрачной
Грозный, мрачный
Черный вал.
На песок холодный, влажный,
Гордый, важный
Он взбегал
И, взметнувшись вверх высоко,
Вдруг глубоко
Он вздыхал.
И сражен в борьбе великой
С песнью дикой
Умирал…
На просторе ширь морская,
Вся сверкая
Багрецом,
Волновалась и шумела,
И горела,
Как огнем…
<1900 – начало 1901?>
«Стемнело. И черные тени…»
Стемнело. И черные тени
На серые стены легли.
А мы всё сидели с тобою
И тихие речи вели…
И всё говорили о разных
Совсем нам ненужных вещах –
Ненужных и серых, как тени
На этих угрюмых стенах,
Ненужных и серых. Но что-то
Звучало сильнее речей…
К плечу голова опускалась,
Сплеталися руки тесней…
И что-то в душе разрасталось
И было так ясно, без слов…
Но ты вдруг сказала, вставая:
«Пойдемте-ка – ужин готов».
<Январь 1901?>
Камни Парижа
В поэзии старых больших городов
Есть близкое что-то к природе:
Стихийною силою веет от них.
И в уличном шуме, в народе,
Струящемся бурной и пестрой волной,
Когда приглядишься поближе,
Услышишь рев бури и дальний прибой…
Я помню, бывало, в Париже
Дыханье всемирной столицы внимал
Я с дикой и странной любовью:
Здесь каждый вершок обагрен и облит
Героев священною кровью;
Есть жгучее что-то в его мостовой,
Вспоённой волною восстаний
И веет дыханьем борьбы вековой
От этих соборов и зданий…
Сперва он меня и пугал, и давил
Своей красотой непонятной,
Но после, как женщину, я полюбил
Весь этот Париж необъятный
Спускается вечер, и ясен, и тих,
Струится красавица Сена.
Оттенки прозрачны, как пушкинский стих,
Как краски у Клода Лоррена.
И вот огоньки уж на Сене зажглись,
И высится, мрачен и страшен,
Темнеющей массой Palais de Justice
С рядами таинственных башен.
Кипящая жизнь подмывает волной
Старинные зданья и стены
И лижет, и точит гранит вековой,
Как воды красавицы Сены.
Но вся пестрота этой жизни людской,
Безумно несущейся мимо,
Без этих остатков минувших веков
Была бы почти нестерпима.
Они в нее вносят трагичный аккорд,
Как реквием отжитой силе.
Так мумии предков на древних пирах
Меж пьяных гостей проносили.
В глухих переулках молчанье и тишь,
Здесь звуки и блеск угасают
И только в пролетах карнизов и крыш
Далекие звезды сияют.
О, камни Парижа! О, если б они
Былое поведать могли бы!
На площади башни чернеют во тьме,
Как две сталактитовых глыбы.
Воспетый поэтом собор Notre Dame!
Фантазии юной приманки!
Напрасно искал я на темных стенах
Зловещее слово «αναγκη».
Всё стерто. Израненный, старый собор
Чуть виден средь мрака ночного,
Но самое кружево черных камней
Сплетается в страшное слово.
Здесь поле иной грандиозной борьбы:
Теперь торжествует мещанство.
Надломлена сила великих церквей,
Могучих твердынь христианства.
Да будет! Сияющий разум стряхнет
Оковы и веры, и чувства!
Мне жаль только этот таинственный мир
Забытого ныне искусства.
Прохладу и сумрак старинных церквей,
Проникнутых тихой любовью,
Где весь отдаешься невольно во власть
Прекрасному средневековью.
Слегка выделяясь, во мраке видны
Пилястры, карнизы, оконца.
И только розетки сияют вверху,
Как два фиолетовых солнца.
Висят разноцветные нити лучей,
На сводах дрожащие пятна,
Весь сумрак какой-то прозрачный, цветной,
Таинственно-тихий, понятный…
А в окнах… там целый особенный мир
Готических старых соборов –
Вся эта гармония красок, цветов,
Фигур, переплетов, узоров.
Теперь там всё тихо. Трепещущий свет
Едва озаряет ступени,
Статуи и стены. От темных колонн
Ложатся гигантские тени.
И тени шевелятся, тянутся вверх,
Как длинные черные руки,
И вдруг раздвигают покров тишины
Органа могучие звуки…
И тяжко вздыхает огромный собор,
Рокочут далекие своды,
И тихо, и глухо им вторят из тьмы
Пустых галерей переходы.
В глухих переулках молчанье и тишь.
И шум, и огни угасают…
И только в пролетах карнизов и крыш
Далекие звезды сияют.
Слепыми глазами большие дома
Глядят в темноту. Оживают
И шепчутся камни при звуке шагов,
И беглые тени мелькают…
Вот Лувр. Расцветал он как чудный цветок
В течение долгих столетий.
Как сердце Парижа, он рос вместе с ним,
И камни священные эти
Слагал в бесконечной работе веков
Бесчисленный ряд поколений.
Теперь там сквозь окна при свете луны
Виднеются белые тени.
Там белые мраморы в залах стоят,
Их лица прекрасны и строги.
Повиты туманною дымкой веков,
Там дремлют античные боги,
И слышится мраморный гимн красоте
В созвучьях ритмических линий…
Там в зале на пурпурном фоне встает
Таинственный облик богини.
В лице ее только одна красота:
Ни горя, ни счастья, ни муки…
Мучительно-дивной загадкой у ней
Отломаны чудные руки.
Глядел я, и делались эти черты
Всё чище, понятней и ближе.
И… виделось старое кладбище мне
Одной из окраин в Париже.
Кругом монументы богатых мещан,
И скромно лежит между ними
Простая могила. На белой плите
Написано славное имя
Того, кто бессменно стоял на часах
У трупа заснувшей свободы,
Когда, истомленные страшной борьбой,
Во тьме задыхались народы.
В то время в развалинах старых твердынь
Шипели и ползали гады,
И молча защитники света во тьме
Слагали свои баррикады.
И лишь наступали чудовища тьмы,
Тогда начиналась потеха,
И он пригвождал их к позорным столбам
Сверкающей молнией смеха.
Но часто в ликующем вихре борьбы
Неверны бывали прицелы,
И верных друзей поражали не раз
Его ядовитые стрелы…
Родился не здесь он, родился в стране
Преданий и сказок – на Рейне,
Где высятся замки и льется рейнвейн,
И звался он Генрихом Гейне.
Но даже по смерти язвит его вновь
Врагов ядовитое жало:
Мещанская пошлость и злоба ему
В посмертном венце отказала.
Где памятник Гейне? Поэт оскорбил
Немецкую скромность стихами!!!
Зато на чужбине могилу его
Украсили люди цветами:
Над нею склонились цветы хризантем
И грустные белые розы…
Сбылось предсказанье поэта: в цветы
Теперь расцвели его слезы.
И здесь, у подножья богини – в лучах
Холодного лунного света,
Мне чудился бледный, прекрасный, немой
Страдальческий облик поэта.
Больной он приплелся сюда…
И сел. Бесконечное чувство
Любви и страданья в глазах… а лицо
Всё залито светом искусства.
Он с нею прощался… Он встал и пришел,
Собравши последние силы,
И больше не мог уже встать никогда
Со страшной «матрацной могилы».
Но в нем не угасла горячая мысль,
Она еще долго боролась,
А в трупе жил только сверкающий смех
И ясный, чарующий голос…
В глухих переулках молчанье и тишь,
И шум, и огни угасают…
И только в пролетах карнизов и крыш
Далекие звезды сияют.
Чем ближе к бульварам, тем звуки слышней:
Там вечная кипень людская,
Там вечный поток разноцветных огней
Несется, гремя и сверкая.
Но только люблю я не эту толпу
Бульваров, кофеен и прочих
Вертепов и зрелищ – люблю я толпу
Здоровых парижских рабочих.
Я помню картину: народ затопил
Все окна, балконы, веранды.
На старых деревьях бульваров висят
Парижских мальчишек гирлянды.
Знамена и солнце… Струится толпа
Рекой разноцветной, веселой…
То здесь загорится, то вспыхнет вдали
Горячий мотив карманьолы,
И вдруг разольется как вихрь, как пожар,
Подхватит, как буря… Тогда мне
Казалось, что здесь, у меня под ногой,
Шевелятся самые камни,
Что стоит дать волю вражде вековой,
Безумной, слепой, но понятной –
И в щепы размечет толпа, разнесет
Весь этот Париж необъятный.
Но нынче он весел – державный народ.
Проходят за ротами роты
Рабочих и женщин, и снова горят
И искрятся смех и остроты.
Я видел, как школьники-дети несли
Огромное красное знамя
С девизом «Ni dieu et ni maitre!» Девиз,
Написанный их же руками!
Да, Франция может без страха глядеть.
Чего ей бояться на свете,
Когда из ее материнской груди
Выходят подобные дети.
В глухих переулках молчанье и тишь,
И шум, и огни угасают…
И только в пролетах карнизов и крыш
Далекие звезды сияют.
В красивом развесистом парке Монсо
Есть мраморный бюст Мопассана,
И девушка тихо задумалась там
Над мраморной книжкой романа.
Я долго стоял и глядел на него…
Далекие звуки рыдали…
Осенние листья носились над ним
И мраморный лоб целовали…
На улицах всюду молчанье и тишь.
И шум, и огни угасают.
И шепчет сквозь сон необъятный Париж,
И ясные звезды мерцают…
<Январь 1900 – февраль 1901>