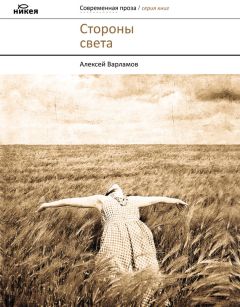Юрий Левитанский - Черно-белое кино (сборник)
«За рощей туман сгущался…»
За рощей туман сгущался,
все чаще дождь моросил.
Я с молодостью прощался,
прощенья у ней просил.
– Еще, – говорил, – побуду.
– Пора, – отвечала, – в путь.
О, я тебя не забуду!
О, ты меня не забудь!
Двенадцать часов пробило.
Темно за окном, черно.
– Когда это, милый, было?
– Вчера, – говорю, – давно.
Луна в облаках бродила,
шуршала у ног трава.
Ах, молодость, ты правдива!
Ах, молодость, ты права!
И тщетно взываю к чуду,
и что-то сжимает грудь…
О, я тебя не забуду!
О, ты меня не забудь!
«Мундиры, ментики, нашивки, эполеты…»
Д. Самойлову
Мундиры, ментики, нашивки, эполеты.
А век так короток – господь не приведи.
Мальчишки, умницы, российские поэты,
провидцы в двадцать и пророки к тридцати.
Мы всё их старше год от года, час от часа,
живем, на том себя с неловкостью ловя,
что нам те гении российского Парнаса
уже по возрасту годятся в сыновья.
Как первый гром над поредевшими лесами,
как элегическая майская гроза,
звенят над нашими с тобою голосами
почти мальчишеские эти голоса.
Ах, танец бальный, отголосок погребальный.
Посмертной маски полудетские черты.
Гусар, поручик, дерзкий юноша опальный,
с мятежным демоном сходившийся на ты.
Каким же ветром обдиралась эта кожа,
какое пламя видел он, какую тьму,
чтоб, словно жизнь безмерно долгую итожа,
в конце сказать – «и зло наскучило ему»!
He долгожители, не баловни фортуны —
провидцы смолоду, пророки искони…
Мы всё их старше, а они всё так же юны,
и нету судей у нас выше, чем они.
«Снег валил до полуночи…»
Снег валил до полуночи, рушился мрак
над ущельями,
а потом стало тихо, и месяц взошел молодой…
Этот мир, он и движим и жив испокон
превращеньями,
то незримой, то явной, бесчисленной их чередой.
Чередуется свет с темнотой, обретенья – с потерями,
и во всем этом свой, несомненно, и смысл, и резон.
Череда превращений, закон сохраненья материи —
как догадка твоя дерзновенна, Овидий Назон!
Все, действительно, так,
и, покуда планета вращается,
и природа, ликуя, справляет свое торжество,
всякий миг завершается что-то,
и вновь превращается
существо в вещество, и опять вещество в существо.
Как в кольце лабиринта глухими бредем
коридорами,
как в преддверии часа, когда разразится гроза,
переходами темными движемся,
между которыми
обжигающий пламень на миг ослепляет глаза.
Недоверчиво смотрим, как трагик становится
комиком,
сокрушенно взираем, как старость вступает в права,
как гора рассыпается в прах,
и над маленьким холмиком,
выбиваясь из сил, молодая восходит трава.
И однажды осенней порой, прислонясь
к подоконнику,
вдруг легко различаем сквозь морок и зябкий
туман,
как наш давний роман переходит в семейную
хронику,
и семейным преданьем становится старый роман.
Мы себя убеждаем – ну, что там печалиться
попусту,
но подстреленной птицей клокочет и рвется
в груди
этот сдавленный возглас – как вслед уходящему
поезду —
о мгновенье, помедли,
помешкай,
постой,
погоди!
Студия звукозаписи
Успеть, пока вертится круг
и вьется магнитная лента.
Не ждать напряженно момента,
когда остановится круг.
Успеть, пока кружится диск,
но только не думать о диске.
Не думать все время о риске,
что все не успеешь сказать
He надо форсировать речь,
и, четко скандируя строки,
старайся не думать о сроке,
который тебе отведен.
Спокойно выкладывай их,
свои сокровенные думы,
а все посторонние шумы
сотрутся в положенный срок.
Бесстрашно выстраивай в ряд
свои путеводные вехи,
а все шумовые помехи
механик потом уберет.
Расставится все по местам,
и где-нибудь в памяти века
проявится вся дискотека
записанных им голосов.
Но ты говори, говори,
ты даже не думай об этом.
Смотри, каким медленным светом
наполнена рама окна.
А ты не смотри, не смотри,
как движется час календарный.
Смотри, как медово-янтарный
по дереву движется сок.
Смотри, как решительно вдруг
набухла апрельская завязь.
И все не кончается запись,
и плавно вращается круг.
Сцена у озера
Озеро Тракай в Литве. Берег. Старинный замок вдали. Раннее утро. На берегу Поэт и Фауст.
Фауст
Мне кажется, что я сегодня вновь,
как в дни былых скитаний многотрудных,
сижу у вод Эгейских изумрудных
на бесподобном празднестве морском.
И нереиды в этот ранний час
гуляют, как купальщицы по пляжу,
а после принимаются за пряжу,
садятся прясть на прялках золотых…
Восходит солнце. Снова будет день,
еще один из множества несметных
обычных наших дней и дней бессмертных,
которым кануть в Лету не дано.
А нам все мало, мало, нас опять
куда-то вдаль влечет – ворочать горы,
искать волшебный корень мандрагоры
иль камень философский добывать…
Поэт
Да вы поэт, мой Фауст, видит бог!
Я дам сейчас вам перья и бумагу,
и вы, мой друг, садитесь и пишите,
и сочиняйте все, что вам угодно —
канцону,
пастораль
или сонет —
сей дар похоронить в земле – преступно!
Фауст
Ну, что ж, кому прекрасное доступно,
кто любит – тот действительно поэт.
Поэт
Да, вы поэт, мой Фауст, в этом суть,
и потому вы так великодушны,
и я не знаю, что мне должно сделать,
чтоб вам воздать за вашу доброту.
И все-таки, и все-таки опять
я смею вас обеспокоить просьбой,
последней моей просьбою смиренной
и самой сокровенною моей.
Мне б так хотелось, о мой добрый Фауст,
хотя бы раз, хотя бы на мгновенье,
воочию увидеть Катерину
в том времени, немыслимо далеком,
в том будущем,
в котором,
неизвестно,
смогу ли увидать ее хоть раз…
Фауст
Хотя, насколько помнится, mein Freund,
подобным обещаньем я не связан,
но раз вам это нужно – я обязан,
и вашу просьбу выполню тотчас.
Глядите ж!..
Возникает утро какого-то дня две тысячи первого года.
Комната Катерины. Катерина, молодая женщина лет двадцати семи, в кресле, с раскрытою книгой на коленях.
Катерина
Не первый раз листаю эту книгу.
Когда-то мне казалось необычным
ее названье – «Письма Катерине
или Прогулка с Фаустом», а вот
привыкла – и читаю, словно адрес,
написанный однажды на конверте,
в котором столько лет хранятся письма,
когда-то адресованные мне…
Читает наизусть.
«Я дьяволу души не продавал —
хоть с Фаустом сошлась моя дорога,
но он с меня не спрашивал залога,
моей души не требовал взамен…»
Конечно, нынче так уже не пишут.
И, верно, слог немного старомоден.
И эти рифмы – кто ж теперь рифмует!
Ax, день минувший, мой двадцатый век,
вчерашнее уже тысячелетье —
извечный спор архаики с модерном,
их бурные ристалища и распри
и странный их
в итоге
симбиоз.
И все же я к тебе, мой прошлый век,
то странное испытываю чувство,
которое подобно ностальгии —
и сладок его вкус,
и горьковат.
Раскрывает книгу и начинает читать.
Поэт
Вы посмотрите, Фауст, посмотрите —
слезинка по щеке ее скатилась!
Я к ней пойду! Хотя бы на мгновенье!
Я только ее волосы поправлю,
слезинку набежавшую утру!..
Несмотря на запрещающие знаки, которые подает ему Фауст, бросается к Катерине. Виденье тотчас исчезает. По щеке Поэта текут слезы.
Фауст
Увы, нам только кажется порой,
что мы свой жребий сами выбираем.
А мы всего лишь слезы утираем,
чужие ли, свои – не все ль равно!
«Освобождаюсь от рифмы…»
Освобождаюсь от рифмы,
от повторений
дланей и ланей,
смирении и озарений.
В стихотворенье —
как в воду,
как в реку,
как в море,
надоевшие рифмы,
как острые рифы,
минуя,
на волнах одного только ритма
плавно качаюсь.
Как прекрасны
его изгибы и повороты,
то нежданно резки,
то почти что неуловимы!
Как свободны и прихотливы
чередованья
этих бурных его аллегро
или анданте!
На волнах одного только ритма
плавно качаюсь.
Как легко и свободно
катит меня теченье.
То размашисто
заношу над водою
руку,
то лежу на спине,
в небеса гляжу,
отдыхаю…
Но внезапно,
там,
вдалеке,
где темнеют плесы,
замечаю,
как на ветру
шелестят березы.
Замечаю,
как хороши они,
как белёсы,
и невольно
к моим глазам
подступают слезы.
И опять, и вновь,
вопреки своему желанью —
о любовь и кровь! —
я глаза утираю
дланью.
И шепчу,
шепчу —
о березы мои, березы! —
повторяя —
березы,
слезы,
морозы,
розы…
«Меж двух небес…»