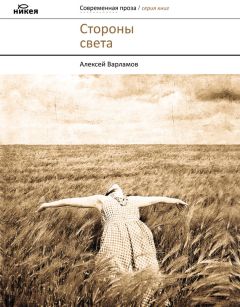Юрий Левитанский - Черно-белое кино (сборник)
«Меж двух небес…»
Меж двух небес (начала и конца),
меж двух стихий (как в кресле брадобрея —
меж двух зеркал), стремительно старея,
живешь на этом тесном пятачке,
в двух зеркалах бессчетно повторяясь
и постепенно в них сходя на нет,
там, за чертой, за гранью дней и лет,
последним звуком нисходящей гаммы.
Две бронзы. Две латуни. Два стекла.
Два тонких слоя ртутной амальгамы.
Вот тайна и развязка этой драмы.
Меж двух стихий (начала и конца),
меж двух страстей (как в кресле брадобрея
меж двух зеркал)… Гораций и Катулл,
Шекспир и Дант сидели в этом кресле.
Они ушли. Они навек воскресли
и в глубине зеркал остались жить.
Ну что ж, мой друг, приходит наше время.
Эй, брадобрей, побрить и освежить!..
И вдруг поймешь – ты жизнь успел прожить,
и, задохнувшись (годы пролетели),
вдруг ощутишь, как твоего чела
легко коснулись вещие крыла
благословенной пушкинской метели…
Ну что ж, мой друг, двух жизней нам не жить,
и есть восхода час и час захода.
Но выбор есть и дивная свобода
в том выборе, где голову сложить!
Строки из записной книжки
…Вот я вижу, как он сдергивает с головы свой блестящий цилиндр и ловким движеньем, привычным движеньем мага и чародея, извлекает из него то пеструю шаль цыганскую, то тулупчик какой-то заячий, то веером распахнет игральные карты, надо же – тройка, семерка, туз!.. У каждого поэта должен быть свой цилиндр. Но сколько мы, грешные, тащим все из того же пушкинского цилиндра!..
* * *Может быть книга подобна чистому хвойному лесу, сосновому бору. Может быть книга подобна березовой роще – и это тоже пре красно. И все-таки смешанный лес, по-моему, лучше.
* * *Популярность поэта при жизни (даже поэта хорошего) – чаще всего долговременной она не бывает. Тут все, как в любви, – бурное увлеченье, медовый месяц, семейная жизнь, привычка.
* * *Прощай. Вдали, в великой отдаленности
от этих мест, с тобою мы увидимся…
«Я дьяволу души не продавал…»
Я дьяволу души не продавал —
хоть с Фаустом сошлась моя дорога,
но он с меня не спрашивал залога,
моей души не требовал взамен.
В том многотрудном странствии своем,
не помышляя прошлое обидеть,
стремились мы не прошлое увидеть,
а в будущее время заглянуть.
И я, идя за Фаустом вослед,
в нем чувствуя надежную опору,
скорее сам был Фаустом в ту пору,
а он был Мефистофелем моим.
Но опытом своим отягощен,
наученный на собственном примере,
мне тайные распахивая двери,
моей души взамен он не просил.
Спасибо тебе, доктор Иоганн,
за все, что мы увидели с тобою,
покуда, ратоборствуя с судьбою,
мы бег времен пытались задержать.
Спасибо за дерзанье и напор,
сдвигающие камень преткновенья,
спасибо за волшебные мгновенья
свиданья с Катериною моей.
Прощайте, я и вас благодарю,
магические камни Виттенберга,
за эту многоцветность фейерверка
на карнавальном празднестве души.
А что же до расплаты – мы и так
в конце концов за все сполна заплатим
своим истцам, и братьям и собратьям,
и всем сестрам, которым мы должны.
«Этот поздний рассвет обнажил и ясней обозначил…»
Этот поздний рассвет обнажил и ясней обозначил
перемены в природе, а значит, и в нашей судьбе.
Сколько лет, сколько зим с той поры пронеслось,
как я начал
их писать, эти письма мои, Катерина, тебе?
Паутинки летят над осенним пустеющим садом.
Августовских лесов загорелись вдали купола.
Ты пришла, Катерина, и стала моим адресатом
до того, как явилась, и прежде еще, чем была.
И когда меня в мокром окопе секла непогода,
и когда я вставал, повинуясь армейской трубе,
и когда я лежал на снегу сорок первого года —
это все были письма мои, Катерина, тебе.
Я тебе посылал их в такие безбрежные дали,
я тебе их писал, лишь о том затаенно скорбя,
что ответа уже отправитель дождется едва ли —
нет, нескоро еще эти письма дойдут до тебя.
Но и самые трудные в жизни моей положенья,
в передрягах ее, в беспощадной ее молотьбе,
все тревоги мои, все победы и все пораженья —
это все были письма мои, Катерина, тебе.
Всею кровью писал их, писал, погибая от жажды,
всею болью своею, одно лишь имея в виду,
что пускай не сейчас, не сегодня, а все же однажды
ты прочтешь их когда-то в две тысячи первом году.
День сменяется днем, и эпоху сменяет эпоха.
Все приемлю как есть, ни на что не пеняю судьбе.
Благодарно припомню за миг до последнего вздоха
все идут еще письма мои, Катерина, тебе.
Над старой тетрадью
Вчерашний день, вчерашние стихи,
вчерашний снег, вчерашняя погода.
А на дворе – иное время года,
и день стоит иной в календаре.
Вчерашние стихи, вчерашний день,
все дальше друг от друга мы уходим,
а встретимся – и сходства не находим
с привязанностью давешней своей.
Вчерашний дождь, вчерашняя гроза,
вчерашний штурм, вчерашняя атака,
ах, Одиссей, к чему тебе Итака,
где у тебя ни дома, ни жены!
Вчерашние стихи, вчерашний день.
Прощаемся, как с первою любовью.
С той первою, соседствующей с кровью
и неспроста рифмующейся с ней.
Я мог бы вам сказать – я вас любил,
трудней сказать – любовь еще, быть может…
Вчерашний день, хоть как он там ни прожит,
а все равно он день вчерашний мой.
И все-таки, и все-таки тот день,
вчерашний мой, и он был не напрасен,
и был под вами снег недаром красен,
мои листы, исписанные мной.
Поэзия, сестра семи скорбей,
семи печалей верная подруга.
И стаи строф – как стаи голубей.
И невозможно вырваться из круга.
Вместо эпилога
А что же будет дальше, что же дальше,
уже за той чертой, за тем порогом?
А дальше будет фабула иная
и новым завершится эпилогом.
И, не чураясь фабулы вчерашней,
пока другая наново творится,
неповторимость этого мгновенья
в каком-то новом лике повторится.
И станет совершенно очевидным,
пока торится новая дорога,
что в эпилоге были уже зерна
и нового начала, и пролога.
И снова будет дождь бродить по саду,
и будет пахнуть сад светло и влажно.
А будет это с нами иль не с нами —
по существу, не так уж это важно.
И кто-то вскрикнет: – Нет, не уезжайте
Я пропаду! Пущусь за вами следом!.. —
А будет это с нами иль с другими —
в конечном счете, суть уже не в этом.
И кто-то от обиды задохнется,
и кто-то от восторга онемеет…
А будет это с нами или с кем-то —
в конце концов, значенья не имеет.
Белые стихи (1991)
«Время белых стихов…»
Время белых стихов, белизна, тихий шаг снегопада,
морозная ясность
прозрачного зимнего дня,
византийская роспись крещенских морозов
на стеклах души,
как резьба, как чеканка – по белому белым —
дыши не дыши —
не оттает уже ни единый штришок на холодном стекле.
Время белых стихов, эти белые строки,
как белые рощи,
зиянье резной белизны,
где случайные рифмы, как редкие вспышки
рубиновых ягод рябин,
хоронящихся в тень,
как снегирь, как синичка – на кончике ветки —
внезапно —
тень-тень! —
хотя речь тут совсем не о рифме,
нет, дело не в рифме,
и речь тут идет не о ней.
Время белых стихов, эти строки,
всего только время и сроки,
мгновенье и час
обостренного зренья, последних прозрений,
последних надежд
и последних утрат,
это возраст души, это воздух предгорий
и горных вершин,
Эверест, Арарат,
где останки ковчега под снегом
с последним ночлегом
так просто уже рифмовать.
Это строгие строки классической прозы,
и белые розы у вас на окне,
и внезапные слезы, причина которых не страх
перед черною бездной
и горным обвалом
куда-то несущихся лет,
а щемящий восторг перед чудом творенья
и чудом явленья на свет,
перед этой счастливой удачей —
однажды случайно возникнуть,
явиться
и быть.
Здравствуй, белое пламя, мой белый костер,
догораю на белом костре,
не прощаюсь, прощаю, и вы меня тоже простите,
я вам говорю,
вы, которые здесь уже были, и вы,
кто еще только будете,
вы меня тоже простите,
смиренно прошу,
потому что вы жили, а вы еще будете жить, а я жив,
я хожу по земле,
я живу,
я дышу.
И объемлет меня все плотней мое белое пламя,
мой белый огонь,
этот вечно кружащийся рой,
рой цветов, поцелуев, улыбок,
исписанных наспех листков
и совсем еще девственно чистых листков,
рой снежинок, и рой мотыльков,
и бесчисленный рой лепестков
белых лилий и белых акаций, которые завтра уже
расцветут.
«Кто-то упрямо и властно…»
Кто-то
упрямо и властно
мне смотрит в затылок,
требуя —
обернись,
оглянись!
А я не оглядываюсь —
догадываюсь,
что увижу,
когда обернусь.
Там,
у меня за спиною, —
мосты,
сожженные мною,
взрывов огненные кусты,
крест
у двести второй версты,
свет одинокой звезды.
А дальше,
если дальше еще оглянуться назад, —
сад,
где яблоки до сих пор на ветках висят,
и листья не увядают.
Яблоки моего детства не опадают.
Яблоки моего детства,
там,
у меня за спиною,
упадут только со мною,
однажды,
когда я обернусь туда.
Вот и иду,
стараясь не оборачиваться,
хотя слышу, как яблони мои
шелестят в тишине,
и дорога моя,
удлиняясь,
все укорачивается,
и чем дальше они —
тем ближе они ко мне.
«Делаю то, что должен…»