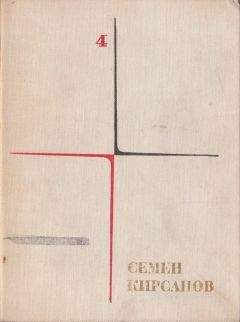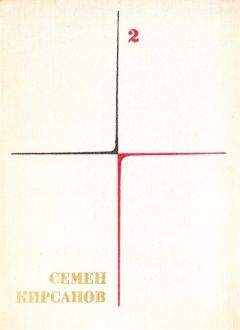Семен Кирсанов - Гражданская лирика и поэмы
На серую дюну вырвался танк, в оспинах многих атак, седым посеребренный холодом. Как мамонт, повел по воздуху хоботом. Пулеметом сказал: «Так, так, так…» И вот из гигантского тела стального, прикрывшись ладонью от света дневного, в пояс поднялся советский солдат, забрызганный кляксами смазки. Ноги его гудят от суточной тряски. Одернул лоснящийся комбинезон, глазами обвел чужой горизонт, где в дымке — крыши и трубы. Оперся о грубый металл своего многотонного ящера, подумал: «Зима — ничего! Подходящая. И то ничего, что руки гудящие, и то ничего, что в масле щека». В Одер глядит не без смешка, на его помраченную воду: «Вот и привез из Москвы непогоду, поземка-то как извивается!» Привстал над рекой: «Вот он, Одер, какой!» И сам себе удивляется: «Силен же советский боец, какой отмахал по Польше конец! А можем и больше. И до Берлина достанем огнем, и эту речушку перешагнем, хотя, конечно, широкая… — молвил, по-волжскому окая. — А кончим войну — река как река, не мелка, судоходна и широка…»
Справа за лесом начался обстрел, и танкист на мгновенье вокруг посмотрел, и всюду, где дюна, бугор или дерево, тянулось на запад от Одера серого орудье советского танка. Коротка у танкистов стоянка! Еще второпях из фляги хлебнул, заглянул деловито под горку да завернул махорку в обрывок «Das Reich» и себе самому подмигнул: «Есть на чем воевать! Отец на коне сражался у Щорса, а я в броне…»
Знает ли он, как ждут его тихие села, в снегах, как невеста, в белом, к венцу? Как у краковских древних костелов полька спешит навстречу к бойцу и, рукою держа распятие медное, щекой прижимается бледною к обожженному боем лицу? Знает ли он, что мыслит о нем серб-партизан, управляя конем на горном обрывистом скате? И чех в городке, объятом огнем, и в Праге на уличке Злате? Знает ли он, как в схожей с полтавскою хате шепчет хорват иль словен простые слова о русском солдате: «Брате, буди благословен!..»
И в снежном дыму родных деревень — радужный и реальный — виден завтрашний день… Перед приказом звучит перебор окрыленный рояльный, мир восходит еще на ступень. Звон звучит обещающе, медленно, длинно, будто из воли возникает былина о взятии нами Берлина… Вот — от Спасских ворот Москву озарит гигантская вспышка, и видною станет каждая вышка, и вверх фейерверк! И вздрогнет земля в потрясающем гуле тысяч — «Победа!» — орущих орудий, и в красно-зеленой мелькающей мгле — Царь-пушка ударит в Кремле, и только ли? Да здравствует гром! Старинная медь с серебром воскреснет в Царь-колоколе! Прожекторы бросят лучи небу на звездное платье. Кольчуги, щиты и мечи зазвучат в Оружейной палате. Гром во славу Советской страны! Ленинский стяг по небу простерся. В музее Гражданской войны озарятся полотна Фрунзе и Щорса. Материнские руки к Западу вытянутся, и в них венки. К седым и гордым учительницам придут возмужалые ученики. Токарь завода «здравствуйте!» скажет и чертеж посмотрит на свет. Отцу лейтенант-комсомолец покажет полученный в битвах партийный билет. Набухайте почками, ветки, затемнение с окон прочь! Двое пойдут к той самой беседке, где прощались они в июньскую ночь. И там, где за Родину лег, в мраморном зареве мирных морозов, изваянный скульптором, встанет Матросов на перекрестке многих дорог. В касках врагов на зеленых долинах сварят обед пастухи. И на обороте плана Берлина поэт напишет стихи, осененные светом рассветным. Он зарифмует «кровь» и «любовь», без боязни быть трафаретным. И важным покажется спор живописцев о цвете и свете. Дети! Для ваших построятся глаз — новые книги на полках читален…
…К этому дню — переправа идет через Одер. Слово огню! Весна растет в непогоде! По аллеям Тиргартена стелется наша метелица. Обмотавши платками гриппозные шеи, последние немцы вползают в траншей. Напрасно! Немецкий не выдержит дот. Бетон попирая, Возмездье идет. Багровые взрывы гуляют по складам. С танка боец соскользнул, замахнулся прикладом и в Одер врага столкнул. Громче гул. Яростный бой! Одер рябой подернут гусиною кожей, трусливою дрожью. Напрасно он лег поперек германских дорог, ржавчину игл ощетиня, разинув драконову пасть у Штеттина. Глубоко мы вонзили копье, Одер, в холодное брюхо твое! Насквозь прошло острие. Уже и на западном берегу пушки гремят: «Горе врагу!» Обрублены лапы притоков. Дейчланд виснет на ниточке. К Бранденбургским воротам с востока тянется ключ титанический. Ненадежны замки германских ворот. Страшен, страшен ключа поворот! Им немало замков отпирали. Кован он на Урале. На железе начертано слово: «Вперед!»
АЛЕКСАНДР МАТРОСОВ
Поэма (1944–1949)
Стой, прохожий!
Видишь:
надпись
на фанерном обелиске!
В бронзу
жизнь Матросова
еще не отлита.
На бугор
положена
руками самых близких
временная
намогильная
плита.
Знаю,
будет дело
и рукам каменотесов.
Но пока
гранит
не вырос в луговой тиши,
исповедь о том,
как умирал боец
Матросов,
выслушай,
узнай,
перепиши.
Пулями
насквозь
его грудная клетка
изрешечена…
Но память глубока —
тысячами плит
на стройках
Пятилетка
памятник бойцам
готовит
на века.
В «Боевом листке»
мы про него читали.
И свежи следы
на тающем снегу,
и не сходит кровь
с нетоптаных проталин,
где Матросов полз
наперекор врагу!
Снежная земля
на сто шагов
примята.
Борозды —
тропу
прокладывавших рук.
Рядом
врезан след
прикладом автомата.
И в конце
он сам.
Товарищи вокруг.
Мы лицо бойца
закрыли плащ-палаткой.
Мы зарыли прах
в окопе ледяном.
Что же знаем мы
о датах жизни краткой?
Как и что
стране
поведаем о нем?
Мы нашли у него
комсомольский билет
и истертое,
тусклое фото.
Мы билет сберегли
и запомнили след
от леска
до немецкого дзота.
Видно, именно здесь,
у овражьих крутизн,
перед вихрем
огня перекрестного
началась
и не кончилась новая жизнь,
и победа,
и слава Матросова.
И тропа,
что своею шинелью протер
он,
проживший немногие годы,
пролегла,
как дорога,
на вольный простор
нашей жизни
и нашей свободы…
Кто желает
его биографию
ненаписанную
найти,
за прямой
путеводною правдою
пусть идет,
не меняя пути!
Чтобы знаемым
стало незнаемое,
пусть пойдет
по надежной тропе,
где Матросов
проходит со знаменем
в комсомольской
кипучей толпе.
Мы хотим,
чтобы время отбросило
сор догадок
и толков кривых.
Мы хотим
Александра Матросова
оживить
и оставить в живых.
Чтоб румяной
мальчишеской краскою
облилось
молодое лицо,
и взмахнул бы
защитною каскою
перед строем
своих удальцов.
Чтоб не я,
а Матросов рассказывал
о себе
в удивленном кругу:
как решил поползти,
как проскальзывал
между голых кустов
на снегу…
Стих мой!
Может, ты способен сделать это
и дыханье жизни
вдунешь в мой блокнот?
И перо послушное
поэта
палочкой волшебника
сверкнет!
Может, ты
оденешь плотью остов,
вправишь сердце
и наладишь ритм?
Молвишь слово —
и вздохнет Матросов,
приподымется…
заговорит…
Заговорить?
Мне?
Нет…
Навряд…
Разве в таком сне
говорят?
Разве я спал?
Нет,
я не спал…
Теплый упал свет
на асфальт.
Сколько людей!
Звон
Спасских часов.
Словно цветет лен, —
столько бойцов!
Чей это
тут сбор?
Гул батарей.
Выбеленный собор
в шлемах богатырей…
Наш!
Не чужой флаг!
Наша земля!
Значит,
разбит враг?
Наша взяла?
Как хорошо!
Близ
те, с кем дружил…
Значит,
не зря
жизнь
я положил.
Какое глубокое, широкое небо! Чистая, ясная голубизна. Высоких-высоких домов белизна. Я здесь никогда еще не был… Вот чудак, Москвы не узнал! Это — Колонный, по-моему, зал. Все непривычно и как-то знакомо. Рядом, конечно, Дом Совнаркома. Прямо, ясно, Манеж. Направо, само собой разумеется, улица Горького. И воздух свеж, и знамя виднеется шелковое. И тоже знакомый, виденный шелк. Колонна вышла из-за поворота… Какой это полк? Какая рота? Песня летит к Кремлевским воротам. Слышу, мои боевые дружки хором ее подхватили! На гимнастерках у всех золотые кружки с надписью: «Мы победили». И пушки за ними всяких систем. Может, вправду в Москве я? Нет… не совсем… Крайний в шеренге — точно, Матвеев. Рядом — наш старшина!.. Значит, уже на войне тишина? Значит, Россия всюду свободна? Значит, победа сегодня? Если такая Москва, может, в Германии наши войска… Видимо, так, в Россию обратно с войны возвращаются наши ребята. Цветы, и «ура!», и слезы, и смех. Ордена и медали у всех. Милиция белой перчаткой дает им дорогу. Меня они видеть не могут. Смеются, на русые косы дивясь… Но нет меня среди нас. В колонне я не иду. Я не слышу, как бьют салютные пушки. Я убит в сорок третьем году у деревни Чернушки.