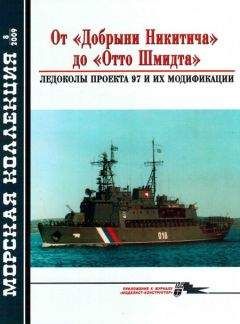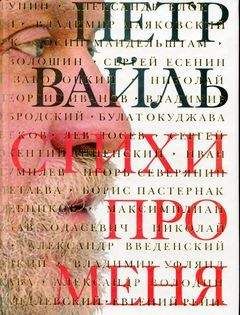Борис Чичибабин - Сияние снегов (сборник)
Лине Костенко
1Лина, вы горимостью святы –
знать, стихии дочь Вы,
чьи стихи – как ливень с высоты
на сухие почвы.
Ливень тот – всеслышимая часть
духотворной воли.
Вот и дивно мне, что Вы за власть –
ту, что вор на воре.
Не добро поэту защищать,
кто в чинах да в сане, –
Вы от них же, ставящих печать,
претерпели сами.
Ведь народ и пастыри – совсем
не одно и то же:
гляньте, кто в начальниках засел –
да все те же рожи!
Или все, что связано с Москвой,
Вам – как в горле костка,
и, хоть вор, хоть вывертень, да свой –
рассудили жестко?
Где ж просвет? Империи-то нет,
хлебушек-то дорог…
Лина, Лина, Вы ж таки поэт,
а не идеолог.
Разве, Лина, разных мы кровей?
Вам на губы перст мой!
Наша Русь природней и первей
царской да имперской.
Я при той в задышливой тоске,
не в зачет, что с риском,
зло клеймил на русском языке,
Вы – на украинском.
Тот и этот – как сестра и брат,
что роднее нету.
Оттого-то я как дурень рад
Вашему привету.
Кровный сын у матери Руси,
русско-украинской,
я ее крестительной росы
мускусом проникся.
Как же сыну матерь не любить –
что леса, что степи?
Во пиру ее да хмелем быть,
цветом шелестеть бы.
Щедротою житниц и криниц
напитавшись вдоволь,
перед милым ликом падать ниц,
как в Полтаве Гоголь.
Уж добро во мне обречено,
лишний час оттикав,
но светлы над нежностью речной
Киев и Чернигов.
Городами древними славна
Русь моя – Украйна,
а другая русская страна
растеклась бескрайно.
Ей земля у хаты не мила,
канув дымной горсткой, –
к шири страсть она переняла
у орды монгольской.
За ту ширь свободой заплатив,
лепотой лебяжьей,
грозным царством встала супротив
самое себя же.
Соблазнилась Азиею Русь,
чтобы стать Россией, –
сколько помню, столько и молюсь:
Господи, прости ей!
Но, коль позовет на Страшный суд
кроткий счет кукушкин,
за царей ответ не понесут
ни Толстой, ни Пушкин.
На одно я в мире обопрусь –
на родное слово,
Украина, Киевская Русь –
русскости основа!..
Вот и значит, Лина, что на том,
что на этом свете,
мы один и тот же вспомним дом,
материны дети.
В доме том господствовать и клясть
чуждо горней воле.
Вот и дивно мне, что Вы за власть
ту, что вор на воре.
Все гордыни – суета сует,
да кому что мило.
Вы ж от Бога истинный поэт –
достоянье мира.
«Нам вечность знакома на ощупь…»
Нам вечность знакома на ощупь.
Раскрытия тайны не жди.
И разве стихи для того, чтоб
во лжи уличались вожди?
Претит им гражданская слава,
в почете пиит иль гоним, –
они из другого состава
и заняты делом иным.
Душе, что от смуты раскисла,
певуче прикажут: «Проснись!» –
и жизни без воли и смысла,
напомнят про лад и про смысл.
Да только услышит-то кто их?
Уж верно, не зэк, не генсек.
Сидим у распивочных стоек,
не слышим, как падает снег.
Тому, кто о небо оперся,
встревоженный вестью с высот,
убийственна пошлая польза
и вряд ли в быту повезет.
Борению духа и плоти
еще не трубили отбой,
и, значит, поэзия против
того, что зовется судьбой.
О, ей бы хоть в ком-то из тысяч,
что низкой тщете предались,
сподобиться искорку высечь
огня, устремленного ввысь!
Но ежели душу задела
обугленным звоном строка,
то что ей при этом за дело
до Ельцина и Кравчука?
Подводя итоги
Покарауль наш дом,
а я пройду по свету:
быть может, там найдем,
чего в помине нету.
С подножий до высот
круг замкнут и изломан,
и снова не везет,
как вечно не везло нам.
Не тщась в потопе дней
возобновлять старинку,
мы снова всех бедней
при переходе к рынку.
В ответ на зов еще
треньбренькаю на лире,
но смутно и нищо
в сознании и в мире.
Откуда счастье нам?
Ведь мы ж не побирушки,
как бедный Мандельштам
говаривал подружке.
В чаду календаря
с прощеньем и виною,
вернее говоря,
оно у нас иное.
Как верилось душе,
когда я был мальчишкой,
но в гору лезть уже
приходится с одышкой.
Все книги, что люблю,
прочитаны в той рани,
и вечер тороплю
для пива и тарани.
О да, я был в аду
и прожитые годы
фундаментом кладу
для внутренней свободы.
Под тяжестью седин
я чувствую впервые,
что мир сей посетил
в минуты роковые.
Не надо, не туши,
не думай, что не время, –
веселием души
поделимся со всеми.
Уж срок тот недалек,
когда любовь и мудрость,
раздув свой уголек,
воздушно обоймут нас.
Да будет нам щитом
душевная отвага
отшельника, чей дом
стоит у Карадага.
Ода одуванчику
В днях, как в снах, безлюбовно тупящих,
измотавших сердца суетой,
можно ль жить, как живет одуванчик,
то серебряный, то золотой?
Хорошо, если пчелки напьются,
когда дождик под корень протек, –
только, как ты его ни напутствуй,
он всего лишь минутный цветок.
Знать не зная ни страсти, ни люти,
он всего лишь трава среди трав, –
ну а мы называемся люди
и хотим человеческих прав.
Коротка и случайна, как прихоть,
наша жизнь, где не место уму.
Норовишь через пропасти прыгать –
так не ври хоть себе самому.
Если к власти прорвутся фашисты,
спрячусь в угол и письма сожгу, –
незлобив одуванчик пушистый,
а у родичей рыльца в пушку.
Как поэт, на просторе зеленом
он пред солнышком ясен и тих,
повинуется Божьим законам
и не губит себя и других.
У того, кто сломает и слижет,
светлым соком горча на губах,
говорят, что он знает и слышит
то, что чувствуют Моцарт и Бах.
Ты его легкомыслья не высмей,
что цветет меж проезжих дорог,
потому что он несколько жизней
проживает в единственный срок.
Чтоб в отечестве дыры не штопать,
Божий образ в себе не забыть,
тем цветком на земле хорошо быть,
человеком не хочется быть.
Я ложусь на бессонный диванчик,
слышу сговор звезды со звездой
и живу, как живет одуванчик,
то серебряный, то золотой.
Россия, будь!
Во всю сегодняшнюю жуть,
в пустыни городские
и днем шепчу: Россия, будь –
и ночью: будь, Россия.
Еще печаль во мне свежа
и с болью не расстаться,
что выбыл я, не уезжав,
из твоего гражданства.
Когда все сущее нищё
и дни пустым-пустые,
не знаю, есть ли ты еще,
отечество, Россия.
Почто ж валяешь дурака,
не веришь в прорицанья,
чтоб твоего издалека
не взвиделось лица мне?
И днем с огнем их не достать,
повывелись давно в нас
твоя «особенная стать»,
хваленая духовность.
Изгложут голову и грудь
хворобы возрастные,
но я и днем: Россия, будь –
и ночью: будь, Россия…
Во трубы ратные трубя, –
авось кто облизнется, –
нам всё налгали про тебя
твои славоразносцы.
Ты ж тыщу лет была рабой,
с тобой сыны и дочки,
генералиссимус рябой
довел тебя до точки.
И слав былых не уберечь,
от мира обособясь,
но остаются дух и речь,
история и совесть.
В Днепре крестившаяся Русь,
чей дух ушел в руины,
я вечности твоей молюсь
с отпавшей Украины.
Ни твое рабство, ни твой бунт
не ставя на весы, я
и днем тебе: Россия, будь! –
и ночью: будь, Россия!
В краю дремливом хвой и вод,
где меркнет дождик мелкий,
преображенья твоего
ждет Радонежский Сергий.
И Пушкин молит со свечой,
головушка курчава:
«Россия, есть ли ты еще,
отечество, держава?»
Вся азбука твоя, звеня,
мне душу жжет и студит,
но с ней не станет и меня,
коли тебя не будет.
Пусть не прочтут моих стихов
ни мужики, ни бабы,
сомкну глаза и был таков –
лишь только ты была бы…
В ларьках барышники просты,
я в рожу знаю всех сам
смешавших лики и кресты
с насилием и сексом.
Животной жизни нагота
да смертный запах снеди,
как будто неба никогда
и не было на свете.
Чтоб не завел заемный путь
в тенета воровские,
и днем твержу: Россия, будь! –
и ночью: будь, Россия!
Не надо храмов на крови,
соблазном рук не пачкай
и чад бездумных не трави
американской жвачкой.
В трудах отмывшись добела
и разобравшись в проке,
Россия, будь, как ты была
при Пушкине и Блоке.
Твое обличье – снег и лед,
внутри таится пламя ж,
и Сергий Радонежский ждет,
что ты с креста воспрянешь.
Земля небес, не обессудь,
что, грусти не осиля,
весь мир к тебе – Россия, будь! –
взывает: будь, Россия!
«Не идет во мне свет, не идет во мне море на убыль…»