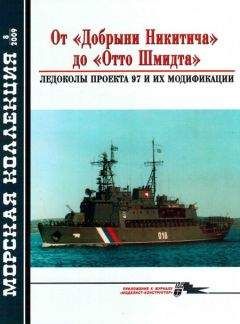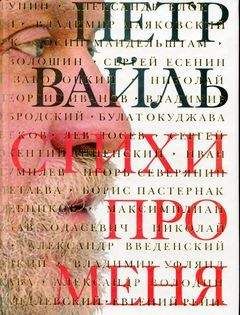Борис Чичибабин - Сияние снегов (сборник)
Сонеты
Воскресный день
В воскресный день с весельем невезенье –
оно давно у нас отменено.
Наводит телик панику на семьи,
приелась вдрызг эротика в кино –
и, как всегда, все к водке сведено,
и уж нельзя взирать без омерзенья,
как мы проводим наши воскресенья.
Да сам-то я хоть чем-нибудь иной?
К чужим страну бездумчиво ревную.
Пойду вздремну, потом пойду в пивную.
Там воздух сиз от дыма и кощунств.
Грохочет рок. Ругают демократов.
Взял кружку впрок, печаль в нее упрятав,
и на пропащих девочек кошусь.
Письмо из Америки
Ты мне призывных писем не пиши
в заморский рай земного изобилья:
с моей тоски там как бы не запил я,
там нет ни в чем ни духа, ни души.
Мне лучше жить в отеческой глуши,
где каждый день вдыхаю Божью пыль я,
где степь ковылья да рысца кобылья,
где ляг в траву и дальше не спеши.
Я не сужу, я знаю, почему ты
оставил землю бедности и смуты,
где небу внемлют Пушкин и Толстой,
и проку нет с предавшим пререкаться.
Стихи – не довод для американца.
Я обойдусь любовью и тоской.
Всё не так
С тех пор как мы от царства отказались,
а до свободы разум не дорос,
взамен мечты царят корысть и зависть
и воздух ждет кровопролитных гроз.
Уже убийству есть цена и спрос.
Не духу мы, а брюху обязались
и в нищете тоскуем, обазарясь,
что ни одной надежды не сбылось.
Какой же строй мы будущему прочим,
где ходу нет крестьянам и рабочим,
где правит вор, чему барышник рад?
Но, коль уж чтец страстей новозаветных
на стороне богатых, а не бедных,
тогда какой он к черту демократ?
Село
На кой мне ляд проваливаться в ад?
Бродить по раю, грешный, не желаю.
Зато в селе всему, что помню, рад:
дымку печей, кудахтанью и лаю,
шатрам стогов и шаткому сараю,
где дышит хмель и ласточки шалят.
Страды крестьянской праведность и лад
в крови храню и совесть с ней сверяю.
До зорьки встать, быть к полдню молодцом,
разлечься на ночь к воздуху лицом,
охапку снов поклавши в изголовье.
Нет, сельский дух и в храме не изъян:
и красота корнями из крестьян,
ей и дерьмо коровье на здоровье.
Снег
А ну, любовь, давай в оконце глянем –
в душе разор, а в мире красота.
Что за зима, как будто в детстве раннем,
трескучим светом пышно разлита!
Белым-бело, а зорька золота.
И год пройдет, а в город не нагрянем,
к щеке щека прильнув к искристым граням,
не для людей отливы изо льда.
А Бог дохнет – и с неба хлынут хлопья
и белизну сияньем обновят.
Нет, Божий мир ни в чем не виноват.
Он бел и свеж до неправдоподобья.
Бездарна жизнь, но в двух вещах мудра:
есть огнь и снег, все прочее – мура.
Смута на Руси
Толкуют сны – и как не верить сну-то?
Хоть все потьмы слезой измороси.
Услышу: «Русь», а сердце чует: «смута»,
и в мире знают: смута на Руси.
А мы-то в ней как в речке караси.
А всей-то жизни час или минута.
И что та жизнь? Мила ль она кому-то?
На сей вопрос ответа не проси.
А вот живу, не съехавши отсюда!
Здесь наяву и Чехов жил как чудо,
весь мир даря вниманьем и тоской.
Есть смуте срок. Она ж неуморима,
моя Россия – Анна и Марина
и Божьи светы – Пушкин и Толстой.
Песенка на все времена
Что-то мне с недавних пор
на земле тоскуется.
Выйду утречком во двор,
поброжу по улицам, –
погляжу со всех дорог,
как свобода дразнится.
Я у мира скоморох,
мать моя посадница.
Жизнь наставшую не хай,
нам любая гожа, –
но почто одним меха,
а другим рогожа?
Ох, империя – тюрьма,
всех обид рассадница, –
пропадаем задарма,
мать моя посадница!
Может, где-то на луне
знает Заратустра,
почему по всей стране
на прилавках пусто,
ну а если что и есть,
так цена кусается.
Где ж она, благая весть,
мать моя посадница?
Наше дело – сторона?
Ничего подобного!
Бей тревогу, старина,
у людей под окнами!
Где обидели кого,
это всех касается, –
встанем все за одного,
мать моя посадница!
Ни к кому не рвусь в друзья
до поры до времени,
но, по-моему, нельзя
зло все видеть в Ленине.
Всякий брат мне, кто не кат,
да и тот покается.
Может, хватит баррикад,
мать моя посадница?
У Небесного Отца
славны все профессии:
кто-то может без конца
заседать на сессии.
Не сужу их за тщету,
если терпит задница.
Наше время – на счету,
мать моя посадница!
А роптать на жизнь не след:
вовремя – не вовремя, –
коль явились мы на свет,
так уж будем добрыми,
потому что лишь добром
белый свет спасается.
Как полюбим – не умрем,
мать моя посадница!
Не впервой, не сгоряча,
сколь чертям не тешиться,
наше дело – выручать
из беды отечество.
Нам пахать еще, пахать –
и не завтра пятница.
Все другое – чепуха,
мать моя посадница!
В бессонную ночь думаю о Горбачеве
Всю ночь не сплю. Все ночи, Бог ты мой,
душа вопит на плахе перекладин.
С ней плачут кошки – просятся домой,
а дома нет, дом кем-то обокраден.
И вот, бесовством общим не задет,
не столь по разуменью, сколь по зову,
поскольку он уже не президент,
шепчу сквозь боль спасибо Горбачеву.
Его бытье молвой не обросло,
без добрых слов прошла его минута.
Да был ли он? Молчат добро и зло.
Всем не до них, но надобно ж кому-то.
В ком брезжит свет, тот чернью не щадим.
Вот и сидим без света и без хлеба.
Влип Михаил Сергеевич один
в ту распрю зол, как справа, так и слева.
Он мнил, что революционный дух
в сердцах людей еще не уничтожен,
меж тем как дух в соратниках протух
и стал, как смерть, всем россиянам тошен.
Не верить грех, что вправду он хотел, –
и верой той пожизненно блажен я, –
прозрев душой, от наших страшных дел
не разрушенья, но преображенья.
Когда в свой срок пришла его пора
и в суете подрастерялась челядь,
он выдал нам хоть толику добра,
а большего ему не дали сделать.
Да и не мог: хоть не о небе речь,
на холм и то без Бога не взобраться,
тем паче мир от войн не уберечь,
не превратить империи в собратство.
Но если мы нуждой обозлены
и за труды земные не почтенны,
в том нет его особенной вины,
он до того силком сошел со сцены.
Мы с той поры и дышим вполудых,
творим врагов, потворствуем угару,
как он пропал с экранов голубых
с Раисою Максимовной на пару…
Нам не дано в отеческой звезде
вообразить лампаду африканца,
но суждено невзлюбливать вождей
и от святынь кровавых отрекаться.
Всю ночь не сплю, раскаяньем томим,
вдыхаю дым непокарманной «Варны»,
под плач кошачий думаю: кто мы?
Так недобры и так неблагодарны.
Политика – бесовская игра,
и нас, объятых ею, коль почел он
безумцами, разрушившими храм,
кому о том поспорить с Горбачевым?
Не нам судить, – лишь боль разбередим, –
кто виноватей в роздури базара,
он перед нами, мы ли перед ним, –
но есть Судья, и по заслугам кара.
Плач по утраченной родине
Судьбе не крикнешь: «Чур-чура,
не мне держать ответ!»
Что было родиной вчера,
того сегодня нет.
Я плачу в мире не о той,
которую не зря
назвали, споря с немотой,
империею зла, –
но о другой, стовековой,
чей звон в душе снежист,
всегда грядущей, за кого
мы отдавали жизнь.
С мороза душу в адский жар
впихнули голышом:
я с родины не уезжал –
за что ж ее лишен?
Какой нас дьявол ввел в соблазн
и мы-то кто при нем?
Но в мире нет ее пространств
и нет ее времен.
Исчезла вдруг с лица земли
тайком в один из дней,
а мы, как надо, не смогли
и попрощаться с ней.
Что больше нет ее, понять
живому не дано:
ведь родина – она как мать,
она и мы – одно…
В ее снегах смеялась смерть
с косою за плечом
и, отобрав руду и нефть,
поила первачом.
Ее судили стар и мал,
и барды, и князья,
но, проклиная, каждый знал,
что без нее нельзя.
И тот, кто клял, душою креп
и прозревал вину,
и рад был украинский хлеб
молдавскому вину.
Она глумилась надо мной,
но, как вела любовь,
я приезжал к себе домой
в ее конец любой.
В ней были думами близки
Баку и Ереван,
где я вверял свои виски
пахучим деревам.
Ее просторов широта
была спиртов пьяней…
Теперь я круглый сирота –
по маме и по ней.
Из века в век, из рода в род
венцы ее племен
Бог собирал в один народ,
но божий враг силен.
И, чьи мы дочки и сыны
во тьме глухих годин,
того народа, той страны
не стало в миг один.
При нас космический костер
беспомощно потух.
Мы просвистали свой простор,
проматерили дух.
К нам обернулась бездной высь,
и меркнет Божий свет…
Мы в той отчизне родились,
которой больше нет.
А я живу на Украине