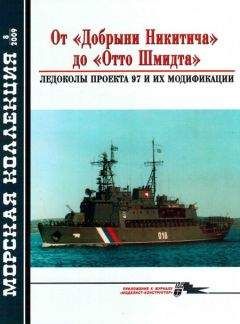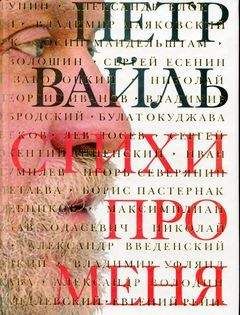Борис Чичибабин - Сияние снегов (сборник)
Земля Израиль
Так и не понял я, что за земля ты –
добрая, злая ль.
Умные пялят в Америку взгляды,
дурни – в Израиль.
В рыжую Тору влюбиться попробуй
жалким дыханьем.
Здесь никогда и не пахло Европой –
солнце да камень.
Мертвого моря вода ядовита,
солоно лоно –
вот ведь какое ты, царство Давида
и Соломона.
Что нам, приезжим, на родину взяти
с древнего древа?
Книги, и те здесь читаются сзади,
справа налево.
Недружелюбны и не говорливы
камни пустыни.
Зреют меж них виноград и оливы,
финики, дыни.
Это сюда, где доныне отметки
Божии зрятся,
нынешних жителей гордые предки
вышли из рабства.
Светлое чудо в лачуги под крыши
вызвали ртами,
Бога Единого миру открывши,
израильтяне.
Сразу за то на них беды волнами,
в мире рассеяв,
тысячу раз убиваемый нами
род Моисеев.
Не разлюблю той земли ни молвы я,
ни солнцепека:
здесь, на земле этой, люди впервые
слышали Бога.
Я их печаль под сады разутюжу,
вместе со всеми
муки еврейские приняв на душу
здесь, в Яд-Вашеме.
Кровью замученных сердце нальется,
алое выну –
мы уничтожили лучший народ свой
наполовину.
Солнцу ли тучей затмиться, добрея,
ветру ли дунуть, –
кем бы мы были, когда б не евреи, –
страшно подумать.
Чтобы понять эту скудную землю
с травами злыми,
с верой словам Иисусовым внемлю
в Иерусалиме.
В дружбах вечерних душой веселея,
в спорах неробок,
мало протопал по этой земле я
вдумчивых тропок.
И, с тель-авивского аэродрома
в небо взлетая,
только одно и почувствую дома –
то, что Святая.
Когда мы были в Яд-Вашеме
А. Вернику
Мы были там – и слава Богу,
что нам открылась понемногу
вселенной горькая душа –
то ниспадая, то взлетая,
земля трагически-святая
у Средиземного ковша.
И мы ковшом тем причастились,
и я, как некий нечестивец,
в те волны горб свой погружал,
и тут же, невысокопарны,
грузнели финиками пальмы
и рос на клумбах цветожар…
Но люди мы неделовые,
не задержались в Тель-Авиве,
пошли мотаться налегке,
и сразу в мареве и блеске
заговорила по-библейски
земля на ихнем языке.
Она была седой и рыжей,
и небо к нам склонялось ближе,
чем где-нибудь в краях иных,
и уводило нас подальше
от мерзословия и фальши,
от патриотов и ханыг.
Все каменистей, все безводней
в ладони щурилась Господней
земля пустынь, земля святынь.
От наших глаз неотдалима
холмистость Иерусалима
и огнедышащая синь.
А в сини той, белы, как чайки,
домов расставленные чарки
с любовью потчуют друзей.
И встал, воздевши к небу руки,
музей скорбей еврейских – муки
нечеловеческой музей.
Прошли врата – и вот внутри мы,
и смотрим в страшные витрины
с предсмертным ужасом в очах,
как, с пеньем Тор мешая бред свой,
шло европейское еврейство
на гибель в ямах и печах.
Войдя в музей тот, в Яд-Вашем, я,
прервавши с миром отношенья,
не обвиняю темный век –
с немой молитвой жду отплаты,
ответственный и виноватый,
как перед Богом человек.
Вот что я думал в Яд-Вашеме:
я – русский помыслами всеми,
крещеньем, речью и душой,
но русской музе не в убыток,
что я скорблю о всех убитых,
всему живому не чужой.
Есть у людей тела и души,
и есть у душ глаза и уши,
чтоб слышать весть из Божьих уст.
Когда мы были в Яд-Вашеме,
мы видели глазами теми,
что там с народом Иисус.
Мы точным знанием владеем,
что Он родился иудеем,
и это надо понимать.
От жар дневных ища прохлады,
над ним еврейские обряды
творила любящая Мать.
Мы это видели воочью
и не забудем днем и ночью
на тропах зримого Христа,
как шел Он с верными своими
Отца единого во имя
вплоть до Голгофского креста.
Я сердцем всем прирос к земле той,
сердцами мертвых разогретой,
а если спросите: «Зачем?» –
отвечу, с ближними не споря:
на свете нет чужого горя,
душа любая – Яд-Вашем.
Мы были там, и слава Богу,
что мы прошли по солнцепеку
земли, чье слово не мертво,
где сестры-братья Иисуса
Его любовию спасутся,
хоть и не веруют в Него.
Я, русский кровью и корнями,
живущий без гроша в кармане,
страной еврейской покорен –
родными смутами снедаем,
я и ее коснулся таин
и верен ей до похорон.
«Не горюй, не радуйся…»
А. Вернику
Не горюй, не радуйся –
дни пересолили:
тридцать с лишним градусов
в Иерусалиме.
Видимо, пристало мне
при таком варьянте
дуть с друзьями старыми
бренди на веранде.
Лица близких вижу я,
голосам их внемлю,
постигая рыжую
каменную землю –
ублажаю душеньку.
Дай же Бог всем людям
так любить друг друженьку,
как мы ныне любим.
Чую болью сердца я:
розня и равняя,
муза Царскосельская –
всем нам мать родная.
Все мы были ранее
русские, а ныне
ты живешь в Израиле,
я – на Украине.
Смысл сего, как марево,
никому не ведом –
ничего нормального
я не вижу в этом.
Натянула вожжи – и
гнет, не отпуская,
воля нас – не Божия,
да и не людская.
«Что-то стал рифмачам Божий лад нехорош…»
Ефиму Бершину
Что-то стал рифмачам Божий лад нехорош,
что не чую в них больше его я,
и достались в удел им гордыня и ложь
и своя, а не Божия воля.
Наших дней никакой не предвидел фантаст.
Как ни долог мучительный выдох,
мир от атомных бомб не погиб, так Бог даст,
не погибнет от слов самовитых.
Можно верстами на уши вешать лапшу,
строить храмы на выпитом кофе,
но стихи-то, – я знаю, я сам их пишу, –
возникают, как вздох на Голгофе.
Конструировать бреды компьютерных муз,
поступившись свободой и светом,
соблазняйся кто хочет, а я отмахнусь,
ибо дар мой еще не изведан.
Не умеющий делать из мухи слона,
как же суть свою в жизни сыщу-то,
где не царственен стыд, и печаль не славна,
и не прибыльны тайна и чудо?
Сочинитель, конечно, не вор и не тать –
грех иной, да и слава не та, мол, –
но возможно ль до старости бисер метать
и с ума не сойти от метафор?
Вместо рецензии
Хоть люб нам Дон Кихот, но кто он –
сам автор путался порой:
дразнящий разум псих и клоун
или всамделишный герой.
«Смеясь над милым, слезы лью, мол», –
признал всевидящий Отец,
и так родился в мире юмор
для восприимчивых сердец.
Печаль веселью не обуза,
смешит добро нас – мир таков:
легко представить Иисуса
меж диккенсовских чудаков.
И тот же Гоголь, тот же Чехов
небесно светятся в мозгу,
со смеха утреннего съехав
на предвечернюю тоску…
В любимом не ища изъянов,
но полюбивши всей душой,
считаю, это Эльдар Рязанов
в компаньи этой не чужой,
что, как над тем спины не горби,
никто не взвесит на весах
наличье нежности и скорби
в его обильных телесах,
что он, бесспорно, как намедни
в том убедиться удалось,
в своей комедии последней
до вышеназванных дорос…
Он из внимательных и щедрых,
чьи сны по воздуху плывут,
чей дар – благополучным недруг
и неудачникам приют.
Он сострадает бедным людям,
кто благороден и гоним,
и, если путь его и труден,
я все равно пойду за ним.
Над лбом его витают нимбы
и проступает благодать,
а мне сегодня надо с ним бы
о несказанном поболтать,
затем что – прямо как в романах –
я, хоть к такому не привык,
после «Небес обетованных»
его поклонник и должник.
«Не празднично увиты…»
Виктории Добрыниной
Не празднично увиты,
а буднично тихи,
в меня вселились Виты
Добрыниной стихи,
что из полуподвалов
взошли на судный свет,
и в них не слышно жалоб
и обвинений нет.
Лишь молвят с горьким жестом,
катая в горле ком,
о неустройстве женском
в пейзаже городском.
Взялась – так не взыщи ты:
в быту, как на войне,
поэту нет защиты,
а женщине – вдвойне.
В истории, похоже,
не стоит ничего
с ободранною кожей
живое существо…
Она ж глядит, не хмурясь,
а пригоршни щедры –
и сердце всколыхнулось
от горечи сестры.
Я радоваться смею,
что, Божий нелюдим,
хожу, выходит, с нею
по улицам одним.
Не в поле, не от ветра,
а в лад календарю
из глаз моих ответной
слезой благодарю.
Цветение картошки