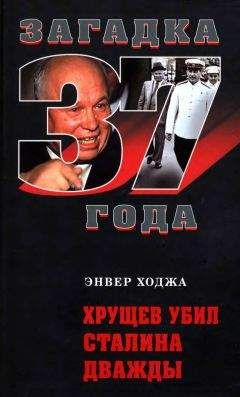Александр Величанский - Под музыку Вивальди
«Стал ты теперь причастен миру мертвых…»
Стал ты теперь причастен миру мертвых
и Воскресенья таинству причастен.
Будь снисходителен к нашему горю в горних —
прости, несчастных.
25.11.1986
«Знать, ни сумы, ни посоха не надо…»
Знать, ни сумы, ни посоха не надо
(сколь неподвижен порог и позадь – дорога),
если уходит душа в страну возврата,
в страну итога.
28.11.1986
«Свет ОДИН. Мы не живем…»
Свет ОДИН. Мы не живем —
я на этом, ты – на том —
на одном живем мы белом свете —
фотография твоя
с пробелами бытия
тем живее на былом портрете.
«Стихи – это радость…»
Стихи – это радость,
а Грузия – грусть,
пусть светлая и незабвенная пусть.
Друзья – это радость,
а Грузия – грусть,
пусть верная и неизбывная пусть.
Любовь – это радость,
а Грузия – грусть,
пусть страстная чаще для виду, но пусть.
Краса – это радость,
а Грузия – грусть,
пусть спеси пустынной исполнена – пусть.
Вино – это радость,
а Грузия – грусть,
и стол наш сегодня невесел и пуст.
Но вот что таят в себе все письмена.
Любовь для чего нам и дружба дана,
но вот в чем секрет и красы, и вина:
коль Грузия – грусть, значит – радость она.
«Эх, Джемали, вправду мы ли…»
Эх, Джемали, вправду мы ли
в беспрепятственной дали
вверх по Барнова ходили,
вниз по Барнова пошли?
Так уж мир устроен или
миг: «тогда», «сейчас», «потом» —
вниз по Барнова ходили,
вверх по Барнова пойдем.
Не забуду и в могиле
вросший в дерево балкон…
Или вниз мы не ходили?
Или вверх мы не пойдем?
Ты – Джемал Аджиашвили,
паспортным клянусь столом,
Величанский я – ходили
и теперь стоим на том.
Днесь в наигрузинском стиле
твой благословляю дом.
Так уж нас благословили:
есть извечный смысл и в том,
что, взглянув на вечну зелень,
на запас голубизны,
мы исчезнем, словно Зэмель,
с милого лица земли.
«Рад или не рад я…»
Рад или не рад я,
но «химеры» прах —
черта-с-два бурят я,
черта-с-два поляк.
Трудно плыть по руслу
отческих кровей —
черта-с-два я русский,
черта-с-два еврей.
Да и православный
я едва-едва.
Но сродни средь зла мне
край твой, татарва.
«На р́еках Вавил́онских…»
На р́еках Вавил́онских
там мы, сидючи, плакали,
поминая Сион-гор́у,
Сион-гору Господнюю —
поминая лишь памятно,
схоронив голоса в гортань,
по ракитам развесивши
наши гусли, пластири ли.
Полонившие нас в полон
говорили: «Воспойте нам
ваши песни сионские
со сионским веселием».
Как же Господу песнь воспеть
на земле, на безбожныя?
и 136-й псалом
мы покорно пропели им:
«Коль забуду, Ерусалим,
я тебя на чужой земле,
пусть отсохнет рука моя,
крестно знамя творящая,
пусть язык закоснеет мой,
пусть ко горлу прилепится,
коль не станет Ерусалим
солью песни – веселия».
Да припомнится ворогам,
как с весельем рекли они:
«Рушьте, рушьте до камушка
до п́уста Ерус́олим-град».
Дочери вавилонские,
век пребудьте бесплодные,
как бесплодна без нас земля,
вся земля иудейская.
А коль младня спор́одите,
пусть же враг, Богом посланный,
о кам́ень разобьет его
разорения нашего.
«Твоя дорога из дорог…»
О. Васильеву
Твоя дорога из дорог —
дорога в родину и в рок:
бредет обочиной кривою
осинничек, не чуя ног —
он беспросветен, словно «вдруг»,
он полн, как колея, водою,
давно ни свет он и ни мрак;
и страшно бы, когда б не шаг,
безгрешный шаг твой за спиною.
«Запомнить сразу…»
Запомнить сразу
значит зазубрить —
пейзаж ли, фразу,
знаний целый том,
но связь иная
есть – иная нить:
мы все запоминаем,
но потом.
«У веселия на дне…»
У веселия на дне,
где мы тешились гулянкой
не с Кузнецким рядом, не
уж тем более с Лубянкой —
в двух нетвердых, но шагах,
у его подножья прямо —
у Николы в Звонарях —
благолепнейшего храма.
«Ветер с рощей ссорятся…»
Ветер с рощей ссорятся
на исходе дня.
СОЖЖЕННОГО СОВЕСТЬЮ
помилуй меня.
И всю ночь, наверное,
длится их грызня.
Ты ж БЕЗДЕРЗНОВЕННОГО
помилуй меня.
Чтоб опять сподобиться
видеть: осень-скит
сожженная совестью
Тебе предстоит.
«Что ж душа? – Иль воздух-вздох?..»
Что ж душа? – Иль воздух-вздох?
Или спрятанная влага?
или алой крови ток?
иль страстей бродячих брага —
нет ей имени живаго,
если есть она – то Бог.
«Печальная отчизна…»
Печальная отчизна,
ты не затмила их —
тех дней без укоризны,
мелькнувших словно блик,
когда на сердце чисто,
и каждый вздох, как стих,
все эти числа, числа
и годовщины их.
«Он поэт безупречный, и это не лесть…»
Он поэт безупречный, и это не лесть.
Но в порядке решения тысячи личных проблем
ему свойственно дико и глухо, и немо ко всем
со своими обидами и оскорбленьями лезть.
«За душой – ни гроша…»
За душой – ни гроша,
за душой – лишь душа,
да и та —
маята —
больно уж хороша.
«Утренний лес…»
Утренний лес
это – ночь наяву.
Свет, как болезнь,
неприятен ему.
Тою же пущей
стоит он, застыв,
словно пропущенный
сквозь объектив.
Тысячи веточек,
веток, сучков,
листьев – навечно
застыли. Таков
брак тьмы и солнца:
тускнеют, смотри,
туманов кольца
на пальцах зари.
«Пленяли нас не раз…»
Пленяли нас не раз,
не первый раз из плена
ушли мы, взяв запас
мацы. И по колено
моря нам были – мок
лишь враг, чем глубже в сердце
наш возносился Бог,
и криков «сгинь, рассейся,
чужого праха персть!»
в ушах навязла глушь, но
«Како воспоем песнь
на земле чуждой?»
«Никогда не увидите вы…»
Никогда не увидите вы,
как березы растут из травы,
из коры ль заскорузлой – побег,
из беспутной толпы – человек
иль как храмы, о высях скорбя,
каменисто стекают с себя —
благодатными водами с гор —
как не видел и я до сих пор.
«Всей силой древа свет вберет…»
Всей силой древа свет вберет
и силе древа вмиг отдаст
слепая ветвь – и кислород
овеет благодатью нас:
вот так и наше среди тьмы
раздвоенное естество:
«ВНУШИ МОЛИТВУ И ВОНМИ
МОЛЕНЬЮ СЕРДЦА МОЕГО».
«Теперь я птица: у меня…»
Теперь я птица: у меня
есть клюв, есть хвост, есть пух и перья,
не фигуральные крыла
сгибаются в суставах словно
рука в локте, и ноги есть
чешуйчатые и с когтями —
их цепче взор мой – он в виду
окрестность всю имеет сразу,
вот я в нее слетаю с вяза,
и испражняюсь на ходу.
По пуху серому Оки
Оки напористой по руслу,
в пространстве сером, как шинель,
я плыл не в славную Тарусу,
тем более – не в Коктебель,
а в, как ее?.. – забыл названье,
верней, оно ушло на дно,
что глубже даже ПОДсознанья,
и, как часы, заведено
на некий миг. Наш челн беспутный
бил лопастями по реке
с таким отчаяньем, как будто
тонул земли невдалеке.
И на корыте том паршивом,
против которого Ока,
одним на свете пассажиром
я был в виду у старика:
в тельняшке, трезв и опечален,
не очень трезв, но и не пьян,
он челн свой безбилетно чалил
к своим безлюдным пристаням,
надеясь, что с узлом-прилавком
и за спиной, и на груди
из пустоты возникнет бабка
и крикнет: «Милай, погоди!»
Но ничего не возникало —
лишь берега в Оке по грудь,
и я до своего причала
решительно решил соснуть,
что в те поры не составляло
труда мне – вдруг хрипатый крик,
и вот уж тащит, как попало,
меня на палубу старик,
совсем зашедшийся от крика:
«Все счастье редкое проспишь, —
кричал старик, – гляди, гляди-ка,
гляди, мудило, – БЕЛЫЙ СТРИЖ!»
И я увидел средь зигзагов,
вблизи черневших и вдали,
стрижа белее белых флагов…
увидел, только к счастью ли?
«Ниже выцветшей зари…»
Ниже выцветшей зари
там, где птицы «сизари»
не летают между крыш,
а на задних лапах лишь
жадно рыщут меж плевков
и окурков – кто таков? —
кто лежит меж голубей —
расстрелянный воробей.
Набросок портрета одной поэтессы