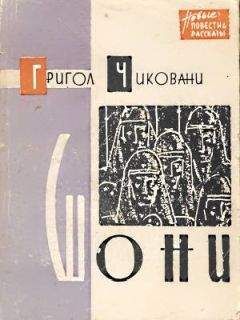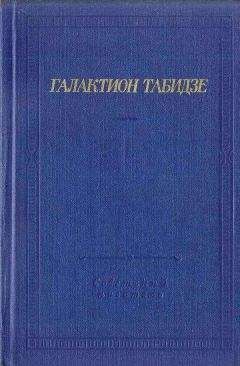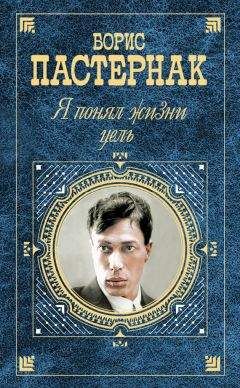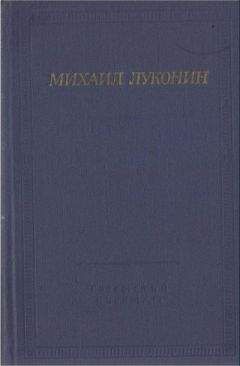Симон Чиковани - Стихотворения и поэмы
54. Гнездо ласточки. Перевод Б. Пастернака
Под карнизом на моем балконе
ласточка гнездо проворно вьет
и, как свечку в выгибе ладони,
жар яйца в укрытье бережет.
Ласточка искусней нижет прутья,
чем иглой работает швея.
Это попеченье об уюте
сказочнее пенья соловья.
Может быть, помочь мне мастерице?
Я в окно ей кину свой дневник.
Пусть без связи выхватит страницу
и постелет, словно половик.
Даже лучше, что, оставшись втуне,
мысль моя не попадет в печать.
Пусть она у бойкой хлопотуньи
не шутя научится летать.
И тогда в неузнанном обличье
грусть, которой я не устерег,
крыльями ударивши по-птичьи,
ласточкою выпорхнет из строк.
Не летите прочь от нас, касатки!
В Грузии вам ласка и почет,
четверть века вскапывали грядки,
почки набухают круглый год.
Грузия весь год на страже мая,
в ней зима похожа на весну.
Я вам звезд на гнезда наломаю,
вас в стихи зимою заверну.
Режьте, режьте воздух беспредельный,
быстрые, как ножниц острия!
Вас, как детство, песней колыбельной
обступила родина моя.
Что же ты шарахаешься, птаха?
Не мечись, не бейся — погоди.
Я у слова расстегну рубаху
и птенца согрею на груди.
55. Начало. Перевод Б. Ахмадулиной
О стихи, я бы вас начинал,
начиная любое движенье.
Я бы с вами в ночи ночевал,
я бы с вами вступал в пробужденье.
Но когда лист бумаги так бел,
так некстати уста молчаливы.
Как я ваших приливов робел!
Как оплакивал ваши отливы!
Если был я присвоить вас рад,
вы свою охраняли отдельность.
Раз, затеяв пустой маскарад,
вы моею любимой оделись.
Были вы — то глухой водоем,
то подснежник на клумбе ледовой,
и болели вы в теле моем,
и текли у меня из ладоней.
Вас всегда уносили плоты,
вы погоне моей не давались,
и любовным плесканьем плотвы
вы мелькали и в воду скрывались.
Так, пока мой затылок седел
и любимой любовь угасала,
я с пустыми руками сидел,
ваших ласк не отведав нимало.
Видно, так голубое лицо
звездочет к небесам обращает,
так девчонка теряет кольцо,
что ее с женихом обручает.
Вот уже завершается круг.
Прежде сердце живее стучало.
И перо выпадает из рук
и опять предвкушает начало.
56. Третья приписка. Перевод С. Куняева
Когда на рассвете я рифмы искал —
Мой край благодатный сверкал новизною,
И стих отраженьем ее заблистал,
И я прослезился внезапной слезою.
Сомненья мои далеко-далеко,
Я предан своим убежденьям и узам.
Но тайное чувство найти нелегко,
Такое, что было б неведомо музам.
Я вновь начинаю с печалью писать,
Гадаю, когда бы и чем вдохновиться.
Мечта поднимает свои паруса
И в поиски новых просторов стремится.
Лишь зрелые души слагают стихи,
Лишь зрелое сердце искрится огнивом.
О скалы Фазиса, вы так высоки,
Но стих вас достигнет в стремленье ревнивом!
Его не упрячешь в уюты теплиц,
Он жизнью замешен, а это не просто,
Он сложен, как сложные линии лиц,
Исполненных ясности и благородства.
А если у голоса нота одна,
То правда стирается от повторенья.
Поэзия! Ты в новизну влюблена,
Ты вечно нова со времен сотворенья!
ПРЕДКИ
57. Теймураз обозревает осень в Кахетии. Перевод В. Державина
Уже октябрь. Я брошен лозняками
к развалинам. Над башенным углом
сидит печальный Теймураз в былом,
даль обводя угасшими глазами.
Поэт-властитель одряхлел как будто,
разорена врагом его страна.
Он жаждет разорвать Ирана путы.
Надежда — в Имеретии видна.
Ворота Греми крыты черной тканью.
Окно дворца раскрыл поэт седой,
холмы, как временем, покрыты мглой,
и лай собак как будто за веками.
И, вспугнутый, взметнувшись с ветки черной,
сквозь три столетья голубь к нам летит.
И Теймураз стиха трубой подзорной
в грядущее Кахетии глядит.
«Там осень!» — шепчет, как бы сожалея.
Айва желтеет, зреет виноград.
Живет Кахетия, и вновь над нею
и журавли и соколы летят.
Деревья тонут в щебете и звоне,
с подойниками женщины идут.
И листья ветру сыплются в ладони
и крыльями павлиньими цветут.
И туча проплывает над долиной,
раскроется листва в лесу густом,
и сгрудит солнце огненным клинком
цвета пунцовый, золотой и синий.
Янтарный, желтый, красный и зеленый
цвета трепещут, блещет синь волны.
И блеск листвы, и ясность небосклона
у юношей в глазах отражены.
И в этот мир, живой и шумный, бросив
в Ширазе выкованный горький стих,
поэт сказал: «Тебя воспел я, осень,
но задыхаюсь средь щедрот твоих.
Всё досказать хотел бы я, да поздно:
жизнь замерла, как звук шагов вдали.
О матери в слезах шумели сосны
и мне печаль великую несли.
Себя и мать, казненную Аббасом,
я в дань моей Кахетии принес.
Я стал певцом, и был мне дан Ширазом
строй песен и удел скорбей и слез.
Певца любви и доблести высокой,
что озарил пергамент волшебством,
я полюбил в дни юности далекой,
но, полюбив, пошел своим путем.
Я вкусом винным, пеньем соловьиным
любви дал имя — в стих оно легло.
Но вороны меня терзали! Ими
я сломан, как орлиное крыло.
Стал жить стихом и предал я забвенью
Кахетии военную звезду.
Чужбина обрекла меня мученью,
я старых гнезд в отчизне не найду.
И каждый стих мой вырвали страданья,
в грядущее мостом кладя его.
Кахетия, каких созвучий гранью
луч сохраню я солнца твоего?
А свежий ветер, вспенивая ветви,
как девушка, в садах смеется нам.
О судьбах Грузии свистящий ветер
пословицей летит по деревням.
О новой родине, о счастье, о покое
по Грузии проносит он молву.
И мне б свое гнездо свивать с тобою,
и мне б там быть с тобою наяву!
Как я вмещу, Кахетия родная,
твою природу в чуждый строй маджам?
Хочу сказать, оленя догоняя,
там, где стоял наш Алавердский храм,
где мой ретивый конь, раскинув гриву,
летал стрелою, легок и могуч,
я вижу: вновь сады страны счастливой
насытил хрусталем полдневный луч.
Вот поле, где я в мяч играл когда-то.
О, стать бы мне живым среди живых!
Я пожелал бы с чашею подъятой,
чтоб, как форель, метался каждый стих;
чтоб, радуя народ игрой всегдашней,
сверкали строфы, как глаза, в веках!»
Умолк поэт. И день над кровлей башни
склонился в холодеющих лучах.
И смотрит на темнеющие пашни
поэт в густых, как иней, сединах.
Поэт проснулся. С кровли голубь-вестник
навстречу временам летит с письмом.
Старик подзорною трубою песни
следит за быстрым вестника крылом.
И из оконца, дряхлый, темнолицый,
он вниз глядит, подобно сироте.
Осенний день в деревне веселится,
как грузный дядя средь гурьбы детей.
Довольством нашим добрый день утешен.
Он сыплет зерна щедрою рукой,
скользит лучом по белым азарпешам
и листья, словно мысли, вводит в строй;
колеблет рощ багряные наряды
и почву винным запахом поит,
как искру, зажигает плод граната,
сады полками яблок полонит.
Стол для крестьян в хоромах накрывает,
не видно жалких хижин бедняков,
отчизны голос с севера взывает,
и Картли откликается на зов.
Храм Алавердский погрузился в холод,
лишь он напоминал бы о былом…
Из будущего возвратился голубь,
и перышка былого нет на нем.
И у вина, наполнившего чаши,
приятнее, чем прежде, вкус и цвет.
Дол Алазанский осенью украшен,
и новый почерк на страницах лет.
Везде веселье порождает песню.
Плоды обильны, радостны труды,
и невод солнца с высоты небесной,
блистая, упадает на сады.
И мир не тот, каким он был когда-то,
и век иной повсюду утвержден,
здесь век семнадцатый на век двадцатый
глядит — и он, старейший, поражен.
Седой поэт глядит на дол и горы,
пьет воду конь, волна шумит, свежа.
Из чащи выбежал олень Важа,
и встали в ряд на берегах Иори
всей Грузии певцы, как сторожа.
И вот к нему стихи как стрелы мчатся —
крестьянских песен вешняя гроза,
гремит за нею следом Чавчавадзе,
и эхом отзываются леса.
И позабыли все, что царь был в Греми,
лишь песня над могилою цветет.
О, Греми строфы оживляет время
и, как мечи, потомкам отдает.
«Из тех, кто населяет склоны эти,
властителя не вспомнит ни один.
Мой дом исчез, а за чертой столетий
поэзия дарит — не властелин!»
Стих падает подзорною трубою
из ослабевших старых рук. И вот
он, прошумев сквозь годы над землею,
в простом саду крестьянском упадет.
И со стиха обдует пыль крестьянин,
потом посмотрит сквозь него на свет,
и столь привычный воздух будет странен,
совсем другим покажется сосед.
Крестьянин скажет: «Так в то время злое
слагали песнь про горестную жизнь».
Как сокола, погладит стих рукою
и вновь научит подыматься ввысь.
И снова Теймураз невольно дрогнет,
сражен своим же собственным стихом,
задернет занавес, захлопнет окна
в своем покое темном и глухом.
Ключ трижды повернет в двери тяжелой…
И складками знамен совьются долы,
века щитами башню заградят.
Опять колхозники толпой веселой
идут снимать созревший виноград.
58. Вардзийский зодчий. Перевод Н. Заболоцкого