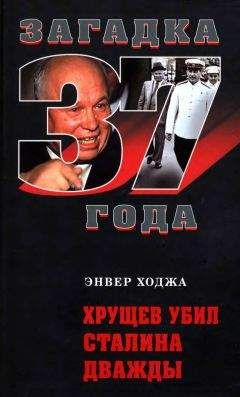Александр Величанский - Под музыку Вивальди
«Человек – лишь состоянье…»
Человек – лишь состоянье,
а не сущность. Так и ты:
как сияло глаз сиянье,
как лучилися черты…
Не дай Бог, узнать нам скоро,
что таит души краса
в глубине колодца-взора,
за околицей лица.
«Лишь тонкой коркой сна…»
Лишь тонкой коркой сна
от мякоти безумья,
ледком прозрачным от
пучин его – душа
отделена – оно
бок о бок с нами, рядом,
нет – в нас самих, как яд —
в тишайших травах: Ша!
«Чуть от тела оттает…»
Чуть от тела оттает,
через дождь или снег,
но душа отлетает
неминуемо вверх —
в космос – скопище теней —
черный – не голубой,
атмосферных явлений
не касаясь собой.
«Стена стволов…»
Стена стволов,
кустов ли прутья.
Обрывки слов.
Обрывы круч.
И коль не путь —
хоть перепутья
дай, Боже, – пустошью
не мучь.
«Землей была им вера…»
Землей была им вера:
над странами они
парили, словно ветром
несомые огни
созвездий ли небесных,
селений ли чужих…
И за полета бездну
все сторонились их.
«Торопясь на постой…»
Торопясь на постой,
на зачахших конях
едет рыцарь худой,
едет рыцарь-толстяк:
толстый прет напролом,
доходяга – отстав,
(где же Санчо с ослом?) —
Дон Кихот и Фальстаф.
«Когда бы был я…»
Когда бы был я
седым буддистом
и подлежал бы
пасьянсу кармы,
хотел бы я
перевоплотиться
в мелодию,
чтоб меня играли.
«Тьма: сумерек осенних…»
Тьма: сумерек осенних
связующий дымок
сметает все, как веник,
как ветер, из-под ног,
и шапкою на воре
горит заря – точь-в-точь —
расплывчата, как море,
беспочвенна, как ночь.
«Поначалу лишь обрядом скорби…»
Поначалу лишь обрядом скорби
кажутся нам смерти годовщины.
А чуть позже – юбилейным лаком
лессируется о близких память, словно
удаляются от нас они, но после,
если хватит незаметной жизни,
в праздник превратятся эти даты,
оттого ль, что с каждым годом ближе
мы к ушедшим, оттого ль, что в смерти
глиняной и вправду мы не видим,
но предчувствуем рождение второе.
«Не таскать нам воду…»
Не таскать нам воду
летом безоглядным,
невозбранный воздух
ребрами сжимая,
не колоть нам дров – эх,
воздыхая темный
предвечерний воздух
осени бескрайней,
не глядеть, как гладит
ласковое пламя
алые поленья
тягою небесной.
«Бескрылых деревьев слетаются стаи – пора…»
Бескрылых деревьев слетаются стаи – пора
опять расставаться со словом – что может быть горше? —
но нам расставаться со словом теперь уж не гоже —
сегодня расстались, зато неразлучны вчера.
«Чтоб вам провалиться…»
Чтоб вам провалиться,
щеки и глаза! —
исказились лица,
скорчилась краса.
Что ж былого пыла
лицам не вернуть? —
иль в них проступила
их былая суть.
«То лета красного пылища…»
То лета красного пылища,
то осень – раз в седмицу – синь:
весна навыворот, а зим
снега: былого пепелища.
И человек – не слеп, не зорок —
в лежалом пожилом пальто
век что-то вымолвить спросонок
хотел бы, но не знает ЧТО.
«Я побывал у подножья берез…»
Я побывал у подножья берез,
видел рябины кровавую гроздь,
кровосмешенье желтка и чернил —
Иван-да-Марью, глядел, как закрыл
глаз свой цикорий. У спуска к ручью
я задохнулся огромной крапивой,
и облака синевою счастливой
вновь надо мной разыграли ничью.
«Удаляясь по алее…»
Удаляясь по алее
от ночного фонаря,
с каждым шагом все длиннее,
все бледнее тень моя —
так иду я среди ночи —
мне ж навстречь от фонаря
следующего – все короче
тень идет, но не моя.
«Забвения лед…»
Забвения лед,
словно зеркала гладь,
глядит лишь вперед —
не оглянется вспять:
из лжи отраженья
не надо, поверь,
ломиться в забвенья
ОТКРЫТУЮ дверь.
«Довольно дури!..»
Довольно дури! —
поеду к морю —
поймаю в нем
золотую рыбу,
все тайные
ей повем желанья
и с миром в дом
возвращусь утешен:
в пучину канула
моя тайна,
как будто камень
немой, как рыба —
как ни реви,
ни рычи, пучина,
молчит в тебе
моей рыбы тайна!
«Сухая пустынность весенних бессолнечных дней…»
Сухая пустынность весенних бессолнечных дней:
ни черного снега, ни зелени проблеска – сухо:
как в рыжей глуши фотографий – серее, рыжей
слепых фотографий, где мы б не узнали друг друга.
«Стволы берез, как свитки…»
Стволы берез, как свитки:
невнятен нам с тобой
сей грамоты-улитки
подтекст берестяной,
и только ветер броский
читает – грамотей —
сырых ветвей наброски,
каракули ветвей.
«Я так привык к упрекам, что иной…»
Я так привык к упрекам, что иной
раз принимал в свой адрес безымянный
то колкость, то подначку, то навет,
которые ко мне и относились,
раз я их принимал пусть без причин
достаточных…
«В нашей плоти провал и проруху…»
В нашей плоти провал и проруху
кануть оной Прообразу вдруг? —
не во плоть Он облекся, а в муку,
в корчи наших разбойничьих мук.
«Ангел крылами…»
Ангел крылами
закрыл лицо,
ангел зажмурил
свои глаза,
и даже нимба
его кольцо
гаснет,
не замыкается.
«Мятежи: вакханалия грез или грозных заоблачных планов…»
Мятежи:
вакханалия грез или грозных заоблачных планов,
вакханалия, ах, гениальной тактической лжи,
вакханалия плах и предательств, предательств, измен и наганов,
вакханалия страха, табу нарушенья, МЕЖИ —
преступить чрез которую, чья же решалась нога? – но
ПРЕСТУПЛЕНИЕ – атавистический, нечеловеческий страх…
Страшен пастырь трусливый, пугливое стадо баранов,
но страшнее всего, когда страхом охвачен смельчак.
«А может быть, премудрый Боже…»
А может быть, премудрый Боже,
душа и смерть одно и то же —
один единственный, но миг
в подушках влажных, чуть живых.
«Махровые маки, черемухи ль дымный Эдем…»
Махровые маки, черемухи ль дымный Эдем,
иль черные розы, забытые нами в пельменной,
высокие гроздья голландских ручных хризантем,
гербарий гербер иль нарцисс, или крокус подземный,
тюльпаны, раскрывшие клювы, – весь этот гарем —
прими от меня и от времени мглы незабвенной.
18.7.87
«Ясность это – тайны…»
Ясность это – тайны
затемненье,
а не антипод
бездонной тьмы.
Слишком полагались
мы на разуменье,
слишком полагались
на безумье мы.
«Была одна вода…»
Была одна вода,
и мрак над пустотою,
и Божий Дух тогда
носился над водою,
но вот, сорвавшись с уст
последнего пророка,
наш мир горит, как куст,
в огне являя Бога.
«Осенний дом, а возле…»
Осенний дом, а возле —
старик в худом пальто:
все стало «ДО» и «ПОСЛЕ»,
но все же больше «ДО».
Погоды льются сводки,
но старику зараз,
как до и после водки,
как до и после нас.
«Вы наконец нашли врага…»
Вы наконец нашли врага,
который вам не страшен —
его же можно оскорбить,
тем выместив на нем
все оскорбленья от врага,
которого бояться
приходится и в той норе,
что верой стала вам.
«Захотелось травине…»
Захотелось травине
сквозь снег прорость.
Захотелось барану
с волкам пожить —
у волков ли житье
вольготное,
у волков ли житье
досытное.
А и вышел баран
в широку степь,
что ль по волчьи выть
научитися.
Как и вышел баран
в широку степь,
с той поры о баране
и слуху нет.
«Мне страшно слушать говорящих…»
Мне страшно слушать говорящих
во сне и нестерпимо жаль
заблудший говор их. Сей ларчик
не открывается. Едва ль
рассудишь ты по дряблым фразам,
по снам, которые глядим,
что он там делает – наш разум,
что он там делает – ОДИН?
«Извилистая нежность…»
Извилистая нежность
моих былых подруг
вдруг помертвела внешне,
и свет их глаз потух,
но снятся мне доселе
они, как в оны дни,
как будто не старели,
а умерли они.
«Пусть, как поземка низок…»