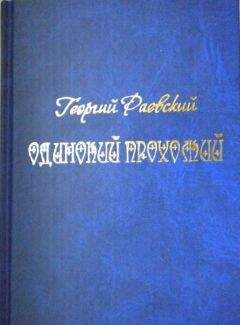Георгий Шенгели - Собрание стихотворений
1916
«Давно в колчане крупный жемчуг…»
Давно в колчане крупный жемчуг
С печалью смешан наравне.
Давно резной на крыше венчик
Без матицы приснился мне.
Давно под черным покрывалом
Текут замедленные сны, –
И в поле трепетным шакалом
Провыт призывный вой войны.
И терем мой зловещ и гулок,
И крыс не слышно за стеной,
Но в клети каждый закоулок
Наполнен злобою живой.
В божнице синие лампады
На ликах не отражены,
И подвижных теней громады
Ползут за мною вдоль стены.
Бежать! — но сторожат погони,
Дорога выбита кольем,
И пораскованные кони
Опоены крутым вином.
Последний вечер. Слышу: филин
Кричит и бьется у окна.
И там, средь облачных извилин
Багровая встает луна.
1916
ДОМИК
Я помню: яркий в летней дреме
На солнцем залитом песке
Уютный выбеленный домик
В уютном южном городке.
Я помню: пол, натертый воском,
Смоленый мат по светлым доскам,
Медовый запах табака,
В окне герани два горшка,
На стенах выцветшие флаги,
Фрегата стройная модель,
За ширмой строгая постель,
На письменном столе бумаги –
Последний угол моряка
В тиши сонливой городка.
Моряк, старик под девяносто,
Но бодрый, молодой, живой,
Всегда приветливо и просто,
Встречаясь, говорил со мной.
Я был влюблен в оттенки моря,
Мечтал о пальмах, о маори,
И в голубые вечера,
Когда зеркальная игра
В зеленой полутьме купальни
Блуждает по изгибам стен, –
Земли тяжелой цепкий плен
Меня томил, а сумрак дальний,
Окутывающий пролив,
Струил волнующий призыв.
Однажды — в заревой истоме
Вдали клубились облака –
Отправился я в белый домик,
В приветный домик старика.
Тот мне обрадовался очень
И, хлопотлив и озабочен,
Соорудил нам чай «с ромком»,
И так прекрасно мы вдвоем,
Жуя варенье из инжира,
Не зажигаючи свечей,
Проплыли волны всех морей
От Гельсингфорса до Алжира
И только ночью в два часа
Свои убрали паруса.
И много вечеров в беседах
Провел я с милым моряком.
Он говорил мне о победах
И о «воздействии линьком»,
О женщинах в портах Китая,
О том, как Веспер, выплывая,
Роняет в воду алый щит,
Как море фосфором горит,
Как ночь в полуденных широтах
Струит зодиакальный свет,
О том, что флота больше нет,
О альбатросовых полетах,
И что, «поверьте, я уж стар:
Лучше манильских — нет сигар».
Прошли года. Моряк мой умер.
Я — закопался в груды книг.
Но где-то в самом дальнем трюме
Родной мечты остался лик.
И нанял домик я знакомый,
Уединился в нем, влекомый
Томленьем сладостным. Светло
В моих трех комнатах, тепло,
И пахнет славной старой трубкой,
И так легко-легко — смолой,
И я приют спокойный мой
Себе рисую верхней рубкой
На адмиральском корабле
В пути к неведомой земле.
И вот пишу я эти строки,
Ведя их пушкинской строфой.
Они просты и неглубоки,
Но я пресыщен глубиной.
Хочу о том, что повседневно,
Сказать волнующе-напевно,
О тихой молвить красоте,
Что поразвеяна везде,
О том, что полюбил я землю,
Уютный домик, вечера,
Мечту о прошлом, что игра –
Окончена и я не внемлю
Фанфарам запредельных сфер
И воплям сказочных химер.
1916
КОРАБЛЬ
Пахнет смолою и дубом под куполом темного дока.
Круто и кругло осел кузовом грузным корабль.
Быстрый топор отдирает обросшую мохом обшивку.
Твердые ребра цветут ржавчиной старых гвоздей.
«Эй, проберемся в пробоину!» Душно в незрячем трюме.
Днище набухло водой. Тупо стихают шаги.
Чую пугливой рукой прикрепленные к стенкам кольца, –
В реве тропических гроз здесь умирали рабы.
Где-нибудь: Тринидад, Вера-Круц, Пондишери, Макао.
Низкий болотистый брег; тяжкий расплавленный зной.
Дальние горы дышат, клубясь вулканною зыбью,
И неколеблемый штиль высосал жизнь парусов.
В тесной каюте над картой седой сидит суперкарго.
Глух он: не слышен ему тяжкий и сдавленный стон,
Что точно пар проницает дубовые доски палуб:
В трюме сквозь желтый туман желтая движется смерть.
Крысы по палубе брызнули топотом быстрых лапок.
Прыгают в волны, плывут. На корабле — тишина.
Только на главной шлюпке, мучась упорной греблей,
Куча матросов влечет ветхим канатом корабль.
День, и другой, и неделя. Штиль неподвижен, как скалы,
Порван буксир, и ладья мчится к родным берегам.
Только лицо рулевого становится бледно-шафранным,
Только и юнга дрожит, чуя последний озноб.
Там же, где брошен корабль, не слышно ни стука, ни стона.
Боком на запад плывет, тайным теченьем влеком.
Точно стремится догнать отрезы шафранного шара,
Что уплывает за грань сеять шафранную смерть.
«Эй, вот ржавчина эта, что пачкает наши пальцы,
Это не тленье ли тех, чьею могилой был трюм?
Это не мертвое ль золото старых гор Эль-Дорадо,
Что, растворившись в крови, красный развеяло прах?»
Быстрый топор стучит, отдирая гнилую обшивку.
В черную рану борта светит лазурная даль.
«Эй, посидим здесь еще! Ты любишь бродить по кладбищу,
Сладостны будут тебе недра бродячих могил».
1917
27 ИЮЛЯ 1830 Г
Случайным выстрелом старуха сражена.
И рота гвардии глядела с перекрестка,
Как с телом поползла капустная повозка,
Зардели факелы и взмыли знамена.
За полночь перешло. Всё двигалась она.
Толпа всё ширилась, нелепо и громоздко,
И ярость плавилась, и сыпалась известка
И битое стекло от каждого окна.
А в бедной хижине, за Севрскою дорогой,
Священник молодой, томим глухой тревогой,
Решил вплоть до утра сидеть и ожидать.
И пред распятием клоня свои поклоны,
Не знал, что в этот миг его старуха-мать
Дрожаньем мертвых рук ниспровергала троны.
1917
СМЕРТОНОСЦЫ
В подводной лодке в рубке капитана
На столике расчерченный картон.
Текучей майоликой отражен
Мутно-зеленый облик океана.
Но хода выверенного уклон
Прямолинеен в тусклостях тумана,
Где массою надменного тарана
Нос панцирного судна напружен.
Вот шелковистый быстрый свист торпеды
Змеиные томительные бреды
Вплетают в четкий перестук машин.
И в лепком воздухе — гранитны лица,
И в сдавленных глазах — осколки льдин.
Но радость вспыхивает, как зарница.
1917
«Квадратный стол прикрыт бумагой…»
Квадратный стол прикрыт бумагой,
На ней — чернильное пятно.
И веет предвечерней влагой
В полуоткрытое окно.
Стакан топазового чая,
Дымок сигары золотой,
И журавлей витая стая
Над успокоенной рекой.
Бесстрастная стучит машинка,
Равняя стройные слова.
А в поле каждая былинка
Неувядаемо жива.
И вечер я приемлю в душу,
Безвыходно его люблю.
Так люб и океан — на сушу
Закинутому кораблю.
1917
«Так хорошо уйти от голосов людей…»
Так хорошо уйти от голосов людей,
От стукотни колес и въедливого лая
На отдаленный холм, где, полночи внимая,
Свой портик мраморный вознес к луне музей.
Спиною чувствуя прохладу старых плит,
Прилечь на лестнице и вглядываться в небо,
Где Веги пламена и нежный огнь Денеба
Светло проплавили индиговый зенит.
1917
ВАТИКАН
Из мягкого белого шелка
На мне шелестит сутана.
Шапочкой белого бархата
Прикрыта моя седина.
Лиловые яхонты четок,
Хмуро мерцая и рдея,
Виноградной гроздью повисли
На белой тонкой руке.
Тетрадь из плотной бумаги
Цвета слоновой кости
Кордуанской узорной кожей
Драгоценно переплетена.
Сухой изящной латынью
Пишу короткие фразы –
Чеканенные медали
Из металлов прошедших веков.
В гулкой тиши Ватикана
Слышно смутные шумы:
В мире и в Городе — знаю –
Юные орды встают.
Подымаюсь на белую башню
И, старчески медля, с балкона
Новым urbi et orbi
Благословенно шлю.
1917