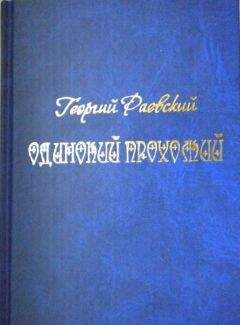Георгий Шенгели - Собрание стихотворений
1918
КРЕПОСТЬ ФАНАГОРИЯ
Из мягких рвов туманом возникая,
Поднялся вечер млечно-голубой.
Прибой примолк, и в ясной тишине
Отчетлив выкрик запоздалой чайки.
Округлым выступом старинный вал
Надвинулся на впалую долину,
Некошеной отросшею травою
Играя с мимолетным ветерком.
Я расстилаю парусинный плащ, –
И так отрадно повалиться навзничь,
Руками распростертыми касаясь
Слегка овлажненной травы.
Суворовская спит Фанагория…
Ключ к отдаленным, к вольным океанам…
Последние оржавевшие пушки
Валяются у церкви в городке.
И только я сейчас припоминаю
Стремленья, что давно перегорели, –
И предо мною тихо возникает
Певец заброшенной Тамани.
И облака, что убежали к югу,
На миг слагаются в печальный профиль,
И млеет нежным отдаленным звоном
Коротенькое имя: Бэла…
1918
НАДПИСЬ НА ТОМИКЕ ПУШКИНА
Теперь навек он мой: вот этот старый, скромный
И как молитвенник переплетенный том.
С любовью тихою, с тревогой неуемной
К нему задумчивым склоняюсь я челом.
И первые листы: сияет лоб высокий,
И кудри буйствуют, — а утомленный взор
И слабым почерком начертанные строки
Неуловляемый бросают мне укор.
Томлюсь раскаяньем. Прости, что не умею
Весь мой тебе отдать пустой и шумный день.
Прости, что робок я и перейти не смею
Туда, где носится твоя святая тень.
1918
«Гляди: сияя свежей чесучей…»
Гляди: сияя свежей чесучей,
Стал на припеке старичок прелестный
И сводит лупой луч отвесный
На край сигары золотой.
Пойдем за ним. И видишь: домик тот,
Где к жалюзи акация прильнула:
Мой старичок там сорок лет живет
Вдали от городского гула.
Взгляни в окно: ряды массивных книг;
А на столе четыре фолианта,
И вот уж он к ним вдумчиво приник,
И так всегда — он изучает Канта.
Он изучает Канта сорок лет,
Два божества он в мире славит:
Закон добра, что нашим духом правит,
И звезд величественный свет.
Пусть жизнь идет. Зачем томиться страхом
Того, что нас за гробом ждет,
Когда возможно вознестись над прахом,
Как милый киммерийский звездочет?
1919
«Январским вечером, раскрывши том тяжелый…»
Январским вечером, раскрывши том тяжелый,
С дикарской радостью их созерцать я мог, –
Лесной геральдики суровые символы:
Кабанью голову, рогатину и рог.
И сыпал снег в окно, взвивался, сух и мелок,
И мнились чадные охотничьи пиры:
Глухая стукотня ореховых тарелок,
И в жарком пламени скворчащие дары.
Коптится окорок медвежий, туша козья
Темно румянится, янтарный жир течет;
А у ворот скрипят всё вновь и вновь полозья,
И победителей встречает старый мед.
Январским вечером меня тоска томила.
Леса литовские! Увижу ли я вас?
И — эхо слабое — в сенях борзая выла,
Старинной жалобой встречая волчий час.
1919
«…Никитские ворота»
…Никитские ворота.
Я вышел к ним, медлительный прохожий.
Ломило обмороженные ноги,
И до обеда было далеко.
И вижу вдруг: в февральскую лазурь
Возносится осеребренный купол,
И тонкая, как нитка, балюстрада
Овалом узким ограждает крест.
И понял я: мне уходить нельзя
И некуда уйти от этой церкви;
Я разгадаю здесь то, что томило,
Невыразимо нежило меня.
Здесь и забвенный разгадаю сон,
Что мальчиком я многократно видел:
Простые линии в лазури, церковь,
И радость, и предчувствие беды.
И я стоял. И солнце отклонилось.
Газетчик на углу ларек свой запер, –
А тайна непрестанно наплывала
И отлетала снова… А потом
Всё это рассказал я другу. Он же
В ответ: «А знаешь, в этой самой церкви
Венчался Пушкин». Тут лишь понял я,
Что значила тех линий простота,
И свет, и крест, и тихое томленье,
И радость, и предчувствие беды.
1919
«Худенькие пальцы нижут бисер…»
Худенькие пальцы нижут бисер, –
Голубой, серебряный, лимонный;
И на желтой замше возникают
Лилии, кораблик и турчанка.
Отвердел и веским стал мешочек,
Английская вдернута бечевка;
Загорелым табаком наполнить, –
И какой ласкающий подарок!
Но вручен он никому не будет:
Друга нет у старой институтки;
И в глазах, от напряженья красных,
Тихие слезинки набегают.
И кисет хоронится в шкатулку,
Где другие дремлют вышиванья,
Где отцовский орден и гравюра:
Кудри, плащ и тонкий росчерк: Байрон.
1919
«Ты помнишь день: замерзла ртуть…»
Ты помнишь день: замерзла ртуть; и солнце
Едва всплыло в карминном небосклоне,
Отяжелевшее; и снег звенел;
И плотный лед растрескался звездами;
И коршун, упредивши нашу пулю,
Свалился вдруг. Ты выхватил кинжал
И пальцем по клинку провел, и вскрикнул:
На сизой стали заалела кожа,
Отхваченная ледяным ожогом.
Не говори о холоде моем.
1919
«Сижу, окутан влажной простынею…»
Сижу, окутан влажной простынею.
Лицо покрыто пеной снеговою.
И тоненьким стальным сверчком стрекочет
Вдоль щек моих источенная бритва.
А за дверьми шумит базар старинный,
Неспешный ветер шевелит солому,
Алеют фески, точно перец красный,
И ослик с коробами спелой сливы
Поник, и тут же старичок-торговец
Ленивое веретено вращает.
Какая глушь! Какая старь! Который
Над нами век проносится? Ужели
В своем движении повторном время
Всё теми же путями пробегает?
И вдруг цирульник подает мне тазик,
Свинцовый тазик с выемчатым краем,
Точь-в-точь такой, как Дон-Кихот когда-то
Взял вместо шлема в площадной цирульне.
О нет! Себя не повторяет время.
Пусть всё как встарь, но сердце внове немо:
Носильщиком влачит сухое бремя,
Не обретя мечтательного шлема.
1919
«Вон парус виден. Ветер дует с юга…»
Вон парус виден. Ветер дует с юга.
И, значит, правда: к нам плывет
Высокогрудая турецкая фелюга
И золотой тяжелый хлеб везет.
И к пристани спешим, друг друга обгоняя:
Так сладко вскрыть мешок тугой,
Отборное зерно перебирая
Изголодавшейся рукой.
И опьяненные сказанья возникают
В Тавриде нищей — о стране,
Где злаки тучные блистают,
Где гроздья рдяный сок роняют,
Где апельсины отвисают,
Где оседает золото в руне.
Придет поэт. И снова Арго старый
Звон подвига в упругий стих вольет,
И правнук наш, одеян смутной чарой,
О нашем времени томительно вздохнет.
1919
«Полночь. Ветер…»
Полночь. Ветер. Лодка покачнулась,
Задержалась на валу прибоя;
Виноградною волной плеснуло
Прямо в парус, в полотно литое.
Узкий луч по волна простирая,
Там на взморье сторожит нас катер;
Ветер плещет в дуло митральезы.
Луч мы видим, слышим пенье ветра.
Проскользнули! Прямо руль! По ветру!
Ах как звонок бег наш полнокрылый!
Ах как пахнет сеном и свободой
Берег тот, куда наш путь направлен!
В море кинут островок песчаный.
Здесь ночуем, здесь мы солнце встретим.
И, спугнувши уток, мы выходим
На песок, уступчивый и теплый.
Спать… Не спим. Сидим и курим трубки,
И молчим, глядя на берег черный,
Где ревут паровики и в небе
Винной розой взвешен дым пожара.
1919
22 ЯНВ. 1793 Г
Мороз острел. Мучительно иззябли
Сведенные в каре гвардейцы; пар
От их дыханья на штыки и сабли
Сел инеем звездистым. Просочившись
Сквозь тучи, снегом взбухнувшие, встало
Слепое утро. В ледяном кольце
Штыков и сабель, синих губ и глаз
Слезящихся — два хобота дубовых
В графитное взносили небо нож, –
Косой пятипудовый сгусток блеска.
Французы ждали, стыли… Вдалеке,
Запряженное в черную карету,
Подъемы преодолевало время,
Скользя и падая. Вдруг крик: «Везут!»
Хлестнул по воздуху. И увидали
Французы, как король, без парика,
В ночном камзоле всходит по ступеням.
Сыпнули крупным градом барабаны,
Метнулись палачи, и эшафот,
Как бы кадильница, пурпурным жаром
Дохнул, — и в небо серый клуб взвился
От стывшей на морозе крови… Пушка
Немедля отозвалась топору.
Париж стонал, рычал. А королева,
Зовя дофина к похоронной мессе,
Уже его именовала: Сир.
1919