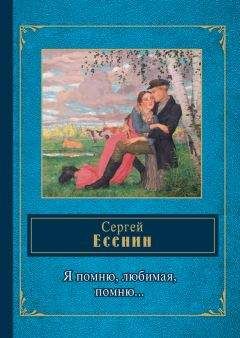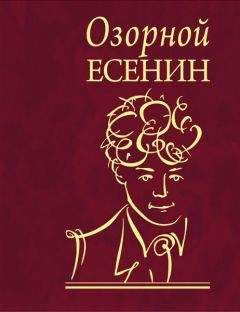Сергей Соколкин - Соколиная книга
* * *
И в память клонится чело.
Десятый век вьюжит…
Россия,
какой неведомою силой
тебя вдоль мира размело?!
Валяют ваньку отовсюду.
И с дыркою, взамен креста,
мужик шатается приблудный
и не желающий родства.
Он как дыхнет…
И в звездной стае
запляшет солнце,
словно черт.
«Окстись!» – вскричу.
Душа оттает.
Но с крыш, как назло, потечет.
Сухарева башня
Не в силах распрощаться с днем вчерашним
и втискиваясь в завтра самое,
я чувствую себя угнавшим самолет,
увидев землю с Сухаревой башни.
Домой лечу. И мается душа.
В иллюминатор выглянув с тревогой,
все то же вижу там: два алкаша
и б… бредут тоскливо по дороге.
И тонут с откровением и болью
во взглядах их и жизнь моя, и грусть,
и самолет, – как крест на снежном поле.
А все пути ведут в Святую Русь…
А я лечу, как будто на премьеру
чужой судьбы. Озлоблен, как дублер,
с упрямством постигая – не Рублев
в ту «троицу» выписывал мне веру.
А мы летим. И монотонно-странно
проходит жизнь, не ведая беды.
И под пятою остаются страны,
и люди – вне борьбы и вне судьбы…
А мы летим, хотя немного страшно.
А впереди, перстом вонзив в зенит
нательный крест свой, Сухарева башня —
боярыней Морозовой летит.
* * *
Ты пробовал стихи на запах?
Они, как вздох, дождем разреженный,
в случайной улице,
внезапно
пахнут любимой женщиной.
Поэзия ложится в строчку,
как тексты песен лебединых.
Я вычитал ее под точкой
в глазах любимых.
Стихи на всё бросают тени.
Им тесен глаз,
как небу – ванна.
Возьми себе на черный день их,
как поцелуи —
до востребованья.
Когда душа пуста настолько,
что места даже для любви нет,
ударит в ноздри запах стойкий.
А выдохнешь —
и строчка сгинет.
Анна-море
Захлестывая чайковую клинопись,
море встало на дыбы
и опрокинулось,
зацепило небо по соседству,
помотало —
дальше снова врозь, —
екнуло в груди,
оборвалось
и тоской обрушилось на сердце.
…То виной несмытой закипало,
то тобой по венам отливало,
то, ладонью придушив глаза,
ревновало к пролитым слезам,
годы вымывая
поминутно,
смешивало вечер – ночь – и утро,
укатило сердце за пределы…
И осело.
А потом,
покачиваясь
в мареве,
всё мерещилось ночами:
то ли это пена на море,
то ль разбившиеся чайки.
Рождение звезды
Выливали себя как придется,
пенной ревностью голубой.
Вдруг из долгой звезды над колодцем
родилась любовь.
Значит, где-то сердце родилось,
запророчило поздней кукушкой.
Пальцы влажные притаились
на своей половине подушки.
Как под долгой судьбой домотканой
вдруг,
прозрев,
о звезду уколоться
и, уткнувшись в небо ногами,
утонуть, как звезда в колодце.
* * *
Шарф на пса намотаю…
– Свинство,
брат мой меньший, – скажу при этом, —
всё же в век дисплеев и джинсов
неэтично ходить раздетым.
И, смеясь, побегу по траве.
На луну я кепчонку заброшу
и забуду, как был озабочен,
что прохладно ее голове.
Через звезды, как бог, пройду я…
Знайте наших, капризные цацы!
И созвездья, как свечки, задую,
и к тебе прибегу целоваться.
Ну а ты, на меня уставясь,
засмеешься и чмокнешь в нос,
скажешь: – Снова напился, красавец,
и щетиной, как пес, зарос…
* * *
Обласкав бездомную собаку,
в сантиментах,
словно год назад,
ухожу
как чувственный слабак я —
чтоб не видеть слез в ее глазах.
Вспомнил:
«Все уже непоправимо…»
Что за бред —
так брякнуть, не моргнув?!
Я учусь терять своих любимых
и все научиться не могу.
Что за гробовое слово – вечность?!
Не понять,
коль был хоть раз любим,
коли вновь
волнует чувства вечер
и так тянет
к женщинам чужим.
Вдохновение
Не осталось ни на зуб корысти
синяки
как Божий след нести;
познаваний яблочных огрызки
в Ньютоновой сморщились горсти.
По весне,
приклеив к голой плеши
прошлогодний пух,
весь на мази,
свежим людям тополь сумасшедший
пудрит неокрепшие мозги.
Наполняет рот пустое слово.
И рефрен забора – по уму.
И поет поэт, как дятел новый,
отыскав на скатерти весну.
И в трубу подзорную бутылки
смотрит день с обратной стороны
внутрь меня,
как дети внутрь посылки,
и мои просматривает сны.
Что ж, смотри,
я в доску трезвых стою,
но за нечто большее стою.
Яблоки,
надкушенные мною,
мыслящим любовью —
раздаю.
Милые, не брезгуйте.
Не в меру
нежно-глуповат ваш ранний лик,
что завис во власти энтээры
как духовный —
но сверхпроводник.
Воспоминание
Андрею Ермакову
Иногда,
по старому обычаю,
хочется упиться – до балды —
и, сжимая девочку приличную,
клясться ей в любви до хрипоты.
И завраться,
и, усевшись в лужу,
плач по Стеньке сердцем прорыдать —
свою душу
глоткою наружу
по ушам пушистым разливать.
И, забыв про крылья за плечами,
наплевать на мнение толпы…
И весь вечер все свои печали
вместе с персияночкой топить.
Потрясать прогнившие основы
и свергать кумиров —
в грязь лицом,
оценить сочувственное слово,
застрелясь соленым огурцом.
Завязав с убогим этим бредом,
замолчать,
скучая до поры,
и, мрачнея,
подливать соседу,
тянущему голосом дурным.
И опять разлить за жизнь иную,
где никто ни разу не бывал…
И —
на друга голову тупую
вылить
недовыпитый бокал.
Щенок любви
Умерла любовь,
как издыхает сука…
Вроде этим все разрешено.
Но остался хлипкий, близорукий,
днем и ночью воющий щенок…
Ты устал, тебе уже не нужно
слов ее, где все опять – вранье,
но ты хочешь быть великодушным
с женщиной – ведь ты любил ее.
И ты в который раз ее выслушиваешь,
любовь хоть в памяти пытаясь разыскать.
И нежность из себя за хвост выуживаешь,
укладывая третьей на кровать.
И выходишь утром как оплеванный
и как будто кем-то обворованный.
А в душе скулит,
скребется,
корчится
тоска собачья.
И тебе вдруг хочется
бежать,
бежать, не вглядываясь в лица
могущих вдруг тебя усовестить…
В горло мертвой хваткою вцепиться
и до хруста челюсти свести.
* * *
Милая,
мы в сумасшедшем доме.
Ты сквозь стену приходишь ко мне.
Принимая чужое подобие,
пририсованное к простыне.
Мы теперь больше с тобой понимаем,
мы умудренными стали почти…
Как тысячи расстроенных роялей
рычат вороны в каменной ночи.
Тени в окне проплывают неслышно.
И сладко пахнущие качаются груши.
Руки за ними тянешь пристыженно,
прямо в руки стекают
обвисшие груди.
Будильник с кнопкой в башке,
как в шляпе,
на кровать таращится,
словно рожа в усах…
Ну их к черту! —
пойду пошляюсь.
Светит луна, точно дырка в трусах.
Иду по траве, будто против шерсти
глажу тропинку к тебе,
насвистывая…
Любовь —
гениальнейшее из сумасшествий,
но нас, к сожалению, скоро выписывают.
И ты горячим лбом к стеклу прижалась.
И распахнулась ночь опять,
как книга наших вечных жалоб,
где нету места, чтоб писать.
И все усилия напрасны
в глуши дрожащего листа.
Но ты выводишь желтой краской
профиль упрямого лица.
Из сентября
Как будто осень разыграла в лицах
тревожный сон:
дрожа и серебрясь,
в твоих глазах, как в уцелевших листьях,
скучающая прихоть сентября
качается…
Я жду…
Уже ловлю,
крича руками глупое: «Люблю!»
Как прост твой вид стал…
И глаза слезятся.
И в полужесте вздрогнула рука.
Лишь губы не решаются расстаться
с последней правдой,
чтоб – наверняка…
Люби —
вшая, не мучайся…
Не мучай!
Влюбленный сор вытряхивая бурно,
соленых листьев выцветшую кучу
и груз надежд —
я сам, с размаху – в урну.
И хохотать, как псих,
как полагается
всем дуракам, кто верил в чудеса.
Пусть гибнут, пусть летят —
хоть осыпаются,
хоть просыпаются
с другим твои глаза.
Что делать, – осень.
С веток, индевея,
шурша, слетает август…
Стар обряд —
спиною к лету раздеваются деревья,
рассматриваясь в лужах сентября.
И отдаются осени. И это
зовется не изменой —
бабьим летом.
А грусть тебе к лицу,
так хорошо
вплелась в прическу желтая погода…
Бывай. Желаю счастья!
Я пошел.
Твои глаза больней моих
покуда…
Все еще любимой