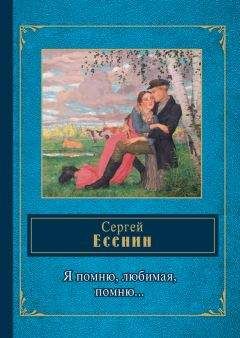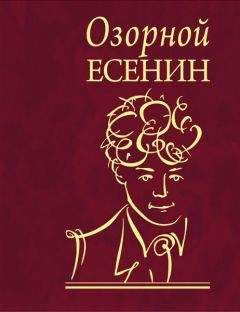Сергей Соколкин - Соколиная книга
* * *
Я – случай из восьмого «Д»,
и без «дозы» вам со мной не справиться…
Я живу в воображении людей
или в памяти, какая разница…
Мне снится сон – навязчивый и жуткий,
привычен, впрочем, он для наркомана:
меня с ладони кормит проститутка,
а я ей говорю: «Мне скучно, мама…»
А за окном, как в кадре негатива,
мои года, темнея на заре,
как лебеди, качаются пугливо
и машут крыльями календарей.
И надевая белые халаты,
мы трем бензином стекла целый день,
мы знаем, это птицы виноваты…
смывая молча белых лебедей…
А я ей говорю: «Мне скучно, грустно…»
И вспоминаю школу, класс и долго
я не могу попасть указкой узкой,
хоть и нашел на карте, в реку Волгу.
А наяву я сплю, мне не до шутки.
Проходит день – как все – обыкновенный.
Потом и сон – навязчивый и жуткий…
Она никак попасть не может в вену…
Прах Шаляпина
Из России, из волжской сторонки,
его гений могучий гремел,
опрокидывая галерки,
подминая парижский партер.
И по миру уже разметался
этот голос – поющих полей.
Ну а он бушевал и скитался,
еще славе не чуждый своей.
Словно рвался от правды земли,
русской удалью мир восхищая…
Вот лишь рампы слепящей огни
от Парижа его отделяют.
Но гудит, содрогается он,
разрывается в боли щемящей…
Словно тот, будь он проклят, вагон,
на чужбину его увозящий.
Только выдохся, сник и одрях
и смирился с судьбою коварной.
И в Россию дошел только прах,
перевитый строкой ординарной…
У Вечного огня
Юрию Кузнецову
Мне снилось, что, с надеждами поссорясь,
пришла сюда моя седая совесть.
Я шел за ней…
«Вот здесь я родилась…»
И тонкой болью слабенькая связь
сквозь прожитые потянулась годы.
И сердце вздрогнуло, и связь оборвалась…
Как на войне.
Вцепившись в кабель рваный,
молчит связист…
И нужен доброволец.
Смогу ли я,
продравшись через раны
погибших там, мне, в общем-то, чужих
до собственной добраться боли
и посмотреть в себя глазами их?!
Понять, как я живу и что мне светит.
Я ждал ответа от самой земли…
Я был уверен, что они ответят.
Они должны ответить,
черт возьми!
Я так воспитан,
я памятью,
как порохом, пропитан.
А вечного огня живые искры
в горячем сердце порождают выстрел.
И мне еще совсем немного лет…
А может, в этом вовсе нет секрета:
искать всю жизнь на жизнь свою ответ
и не найти готового ответа?!
И просто жить…
Но, время пересилив,
найти ответ в своем понятье «жить».
Жить так,
чтобы бескрайняя Россия
слилась в одно с Россиею души.
А с временем я слово породню.
И если совесть вложит мне, как другу,
в мою уже морщинистую руку
мою же молодую пятерню,
то я умру, родиться не боясь
на языке иного поколения.
Здесь мертвых нет!
Здесь совесть родилась,
рожденною задолго до рождения.
* * *
Мне почта принесла пожар Чернобыля.
Как будто встал глазами в центр пекла.
Но я статьи не видел, —
все черно было,
был просто белый лист
засыпан пеплом.
Читал, – глаза съедала катаракта.
А там, как с дерева —
с руки воздетой
апрель, задев за май,
упал в реактор,
от мира отгороженный газетой.
Прорвало апокалипсис. Час пробил.
Полынь чернела, и крепчал поток.
И люди шли,
и каждый как святой был —
шел и светился с головы до ног.
Никто из них не замечал потопа, —
они, влюбляясь, солнца излучали.
И в своих чревах женщины качали
живых… радиоактивных изотопов.
Я строчки разобрал, но позже – к лету.
Пока ж они казались неким шифром.
И каждый день выветривал газету,
посыпая мне голову шрифтом.
Письмо погибшего пожарного
Дайте послушать танец маленьких лебедей,
пусть Чайковским накроется мертвая зона.
На последнем аккорде покидаю я
общество бравых людей,
как банальная рифма,
я останусь под сенью закона.
Вы меня узнаете? —
Исполняю чужие слова.
А своих я не знал и не буду теперь уже ведать.
Стал я частью земли,
за которую отдал сполна,
не успевши узнать,
в чьих руках догорела победа.
А успели ли мы эвакуировать города
с обескровленного
отечественными нейтронами знамени,
зачеркнул ли Чайковский бессмертный балет
свой,
когда
умирающим лебедем я танцевал
в умирающем пламени?
А правда, что водкой болезни и смерть отводили,
а люди бежали от прошлого
и все-таки опоздали?
И землю с собою в душе увозили,
а позже
и сами землею стали?..
И на ней теперь пляшут сухие дожди…
Две строки для жены, чтоб пока не рожала, —
трудно будет с ребенком одной.
Я вернусь.
Подожди…
До следующего пожара.
Ты огонь на конфорке зажги
и спали на нем волос,
тот, который, целуя,
куснул я едва…
Ты его запали —
и услышишь мой голос,
зазвенит голова,
и, светясь,
с легким треском растают —
во вздохе – слова.
* * *
Наш скорый, свистя,
перечеркивает деревню,
таща на хвосте городские огни.
Загрустив,
каждый домик с охапкой деревьев
кого-то высматривает
в моем окне.
И долго —
тя-нет-ся за на-ми,
отставая.
Видно, по ушедшим память гложет…
Как стоп-кран рвут,
отдаляя расставание,
окна – настежь,
душу – настежь тоже!
Господи, дома-то постарели как!
Сгорбились над лужами, ворча,
словно бабки над остывшими тарелками
щей – для не заехавших внучат.
Воздуха – как в песне.
Слышно версты.
Мы бросаем в речку пятачки.
Мы сюда когда-нибудь вернемся.
Избяная наша, подожди.
Оглянусь…
К стеклу прижавшись, сяду,
ощутив прохладу у щеки.
А они столпились и с досадой
смотрят с того берега реки.
Не хватает зрения,
моргают.
И печаль струится сквозь очки.
А потом, наверно, собирают
брошенные нами пятачки.
Майский снег
И грянул гром,
и выпал снег —
грусть вперемешку с шумом капель.
Как будто кто рассыпал смех,
потом подумал
и заплакал.
А позже снег, набравшись сил,
качался мутными стеблями.
Но ветер, воя,
их косил,
звеня воздушными серпами.
Потом, себе устроив роздых,
над клумбой – словно он продрог —
волчком крутился в хлопьях звездных
и зарывался под сугроб.
Потом порхал. И так был сочен.
И так загадочен на вид,
что целый миг казалось —
ночью
он снова в небо улетит…
Хотелось – но никто не вышел —
из снега горки заливать.
Все знали:
завтра день опять.
И грязи будет
выше крыши.
Новый год
Душу, жившую бесслезно,
омываю раз в году
голым трепетом березы,
как из лужи на снегу,
средь цветного обезличья,
надоевших роков вой —
русской песенной привычкой,
полосатою судьбой.
В сердце чувственная ругань
памяти гнездо свила,
но порой, как голос друга,
забываются слова.
И в предчувствия, как с горки,
мчишься, отморозив нос.
И любовь в дубленом горле
застревает, словно кость.
И опять приходит плата —
гаркнуть прошлому: люблю!
И так хочется заплакать,
и опять, стыдясь, терплю.
И, свернувшись матерщиной
в накопившемся соку,
черно-белая судьбина
примерзает к сапогу…
Аминь
В свете жизнью разыгранных драм,
что бы там атеисты не прочили,
влюбленный —
в женщину вхожу,
как в храм,
сотворенный великими зодчими.
И ее просветленным глазам
исповедуюсь напропалую,
к ним припав,
как к живым образам, —
Богоматери руки целую.
Каждый любящий – это родня, —
по скорбящему лику почуял
и, забывшись и взор свой подняв:
«Мама, мама, где сын твой?!» —
кричу я.
«Может, умер он, может, в беде —
нищий духом, но в этой обители
воскрешаю в себе и в тебе
я любовь нашу, мною убитую.
С ней повязан я отчей силой».
В то и верую, осиянный,
что целую свою Россию
в губы черные Несмеяны.
Не бывают чужими объятия!
Под родным
венценосным кровом
дорисовываю уста невнятные
я своей, пусть испорченной, кровью.
И служить тому чувству вещему
вечный крест нас благословил.
В церкви молюсь я женщине,
живущей в вечной любви.
* * *