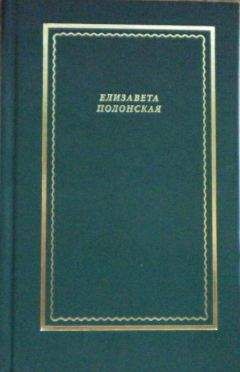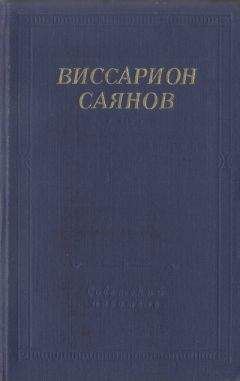Андрей Грицман - Вариации на тему. Избранные стихотворения и поэмы
* * *
Две лодки по реке пустынной,
дорожкой лунной вдоль лесного берега.
Закат слабеет над смурной Америкой.
Над дельтой дальней – ни дождя, ни снега,
ни стога, ни Стожар. И только ветер
гуляет по холмам, по ветхим крышам.
Так было в прошлом на карельском Севере,
где мох ползёт, могилы мягко метя,
как время метит невесомым бременем.
На лунной остывающей поляне
просушим лодки и согреем чаю.
Мы постарели. Просыпаясь рано,
рассвет редеет и тоска мельчает.
Прости за то, что мы, слегка коснувшись,
проплыли мимо острова родного.
Так иногда я думаю, проснувшись,
вскочив во сне, как будто от ожога.
* * *
Высоцкий грозил, что пропьёт долото,
вот и пропил.
На чучеле парусом чёрным пальто
в чистом поле.
Ничто не обещано поездом вслед
летящим по гуду.
Под утро в апреле невидимо лёг
лёд на запруду.
И всё обещание тщетное, нет,
лишь эхо удела.
Глядит фаталист, прищурясь, на свет
в просвет без предела.
Поздний Самойлов
Когда уже допито всё, докурено,
Набедокурено, нацедээлено,
Пристреляно, опалено, залатано,
Когда уже совсем и дела нет,
Когда свободен от любви с плакатами —
Гражданственность в чулане тлеет знаменем, —
Тогда литература стала мебелью,
Снега над Пярну вознеслись знамением
И лёгкие слова летят явлением,
Когда уже ослеп почти
И звук живёт один в закрытом черепе.
Ты эту книгу до конца прочти.
Те строки, как в бутылке, чудным вечером
Плывущей по морям безверия.
Вот выдохнул совсем – и стало холодно
И пусто, словно сердце выдохнул,
Но беспредельно легче и светлее.
И спит поэт в гробу, ему положенном,
Словно солдат на отдыхе под елью.
* * *
А ты не жди, пока меня не станет.
Тогда и разговор пойдёт другой.
Откроют винный, в сквере снег растает,
и ябеда в подъезд войдёт с клюкой.
И потрошитель ЖЭК, вершитель судеб,
закроет свои жёлтые врата.
А их слова, промолвленные всуе,
засохнут коркой у заслонки рта.
Я в двор сойду! Когда не пьёшь пять суток,
становится яснее на просвет
весны московской ледяной напиток
и в небе ангельский Аэрофлота след.
Я знаю: строки, тихие, как пчёлы,
лежат по сотам в памяти РС,
напившись мёда, но луча осколок
на мониторе мертвенном висит.
* * *
Всё тот же поворот, и дом, и дым.
Горит камин, ноябрь, наверно,
в гостиной у огня сидят они, как мы,
в той жизни, позапрошлой и неверной.
Всё это ожерелье городков,
душою облучённых поселений,
скользит под мглистый памяти покров
за поворот, и легче по осенней
листве скользить навстречу той судьбе,
где я один. За окнами всё немо.
Я говорю теперь не о тебе,
но о тепле потерянного дома.
* * *
Пора понять – перед тобой стена,
и в ней окно,
за ним лежит долина.
Когда лежишь – высокий потолок
являет побелённую лепнину.
В окне – тосканская долина, Тверь,
военная излучина притока.
Не думай ни о чём,
не трогай дверь.
Заказан путь, закончены уроки,
и в комнату спускается невесть
откуда свет, но не потусторонний.
В случайных бликах на обоях весть.
Не думая о тяжести урона,
сказать, что это всё не о тебе,
я не могу. И всё-таки светлеют
остаточные пятна на судьбе.
Ещё мерцают, медленно бледнеют.
* * *
Это всё, что мне остаётся.
Там на выходе – надпись «Вход».
Что там слышится или бьётся?
В этом сумраке мирозданья
кто остался – засел навеки.
Надоели все эти прощанья.
Я уже со всеми простился —
за здоровье, и на дорожку, —
и туманней становятся лица.
Не получится разговора.
Но фантомное эхо доходит,
эхо слов или ухо моря.
Я один, и в ночном дозоре
кошки серы, тревожны тени.
И всё ближе тихое море,
и всё дальше охранные стены.
* * *
Всё те же облучённые места,
намоленные в прошлых жизнях.
Прозрачная июньская звезда
над пригородным хламом виснет,
над безымянностью осиротевших мест,
где в два касанья мы себя коснулись.
И до сих пор живёт прикосновенье в бес —
памятстве чужих знакомых улиц.
Нам вместе суждено тепло монет —
бесценное доверчивое чудо.
Фасад, подъезд, в невидимом окне —
чужие блики на глухой стене.
Кто за столом, под гул и звон посуды?
Тот огонь
Я ушёл, и огонь догорал без меня,
И никто не сидел без меня у огня.
Я зашёл в магазин, и в аптеку, и в банк,
но горящий огонь всё не шёл из ума.
Я давно переехал и в новом дому
напеваю и грустно-нормально живу.
Жизнь идёт, и привычно зовёт западня.
А огонь всё горит и горит без меня.
Президенты сменялись, и несколько зим,
я скучал по кому-то в какой-то связи.
Говорил, и писал, и хватал за рукав.
Собеседников круг поседел на глазах.
Жизнь живуча. Я вот – в магазин или в банк,
то присяду к огню, потому что устал.
Я дошёл до угла на мигающий свет
этих фар, и тепло всё дышало мне вслед.
Я живу в новом горьком житейском дыму,
но того же огня я найти не могу.
Отдыхая, сижу у другого огня,
но то пламя горит и горит без меня.
Циклы стихов
Пригородные картинки
Джаз дождя тянет ноту в начале недели.
Вселенная измороси. Мотели,
пакгаузы, склады, станции, магазины
застыли в пригородной низине.
Здесь такое приходит на ум
тем, запаянным в автокоробках:
не сойти бы с ума, на свернуть бы налево.
Славно жизнь передумать, сначала и слева направо.
Но следить за дорогой, не остаться калекой.
Как букварь первоклассника, брошенный дома.
Остаться б на лето в тихом городе вязов.
Я последний из здешних,
кто останется с верой
в то, что время безгрешно,
в то, что школа откроет пудовые двери
и впустит обратно, на время.
Мы на время уходим, всего на неделю,
до начала недели,
а находим себя в безымянном мотеле
на смятой постели
с цепочкой на двери.
Джаз дождя по окну
тарабанит неровную тему,
и гудит грузовик на развилке хайвея.
Ты лежишь и не веришь,
что это случилось с тобою.
Вот и время пришло,
как Толстому, восстать,
выйти в звёздные двери.
Надо выйти совсем.
Не выйдет на время.
Рабочий день раздела вечных вод,
тяжёлый день создания небес,
когда душа пускается в полёт,
едва взглянув на пригородный лес,
на вечное скопление машин
у въезда в придорожный ресторан,
на два окна в мерцающей глуши,
на три других светящихся окна
родного дома, брошенного раз
и навсегда, оставшегося вне
достижимости её скользящих глаз,
невидимо открытых и во сне.
И вдруг заметит среди ста дорог
себя в машине, словно в клетке птицу,
ну, то есть, тело в звуках «Abbey Road»,
забывшее, куда оно стремится.
Среда. Под серым одеялом
застыл, остекленев, пейзаж.
Не мало ли тебе? Не много,
и сожаления с утра
поднялись, словно птичья стая,
в висячем воздухе морском.
Проснёшься, о себе не зная,
в обнимку с девушкой-тоской.
Пока она готовит кофе
и режет сахарный арбуз,
ты чувствуешь – не так уж плохо,
что нежная подруга грусть
отпустит понемногу сердце
в его загадочный полёт,
и, счастью своему не веря,
добавит кофе и вздохнёт.
Вот быт, разлапившись, ползёт
за мутный горизонт – в кухонный угол.
Висят слова: «чернуха», «креозот»,
«тариф», «сопло» и почему-то «ухо».
Спокойно-страшен пригородный быт.
Как будто бы за тыщу вёрст Манхэттен.
Все бодрствуют. И только муза спит.
Не на работе. Девка не про это.
Вот, босиком то в ванную пройдёт,
то небо осенит зевка зияньем.
Но тронется невыразимый лёд
и захрустит на дальнем расстоянье.
Метафоры проснутся по кустам,
и задрожит звезда в созвездье Рака.
Так звук летит по утренним дворам
от грохотанья мусорного бака.
Особенно по пятницам она,
нащупывая грань того порога,
увидит в чёрном омуте окна,
как в ночь Луна спускается полого.
Высвечивая ярко материк,
сидящий прочно на церковном шпиле,
и у бензоколонки грузовик
«U-HAUL»,[6] где фары выключить забыли.
И в их лучах неторопливый снег
плывёт в шабат на грешную планету.
В такие ночи кажется, что не
сходится судьба с душой, и мы за это
должны платить бессонницей, и вслед —
мигренью гулкой утреннего быта.
Но на углу горит сугробный свет:
аптека до полуночи открыта.
Вот так мы сводим счёты с бытием,
сводя себя на нет в броске навстречу.
С утра как соберёшься за вином,
глядишь – уже субботний вечер.
Привычно ждёшь друзей, поднимешь тост.
Приветственно ответит телевизор.
Декабрь, суббота, Рождество, North-East.
Ты точно наливаешь, как провизор,
в прозрачный конус медленный портвейн,
а не плодово-ягодное пойло.
Он растекается по нежной дельте вен
волною блюза, и уже не больно:
вприглядку с одиночеством верстать
свои несуществующие книги.
И голос, жизнь читающий с листа,
снотворным мороком напитывает веки.
По воскресеньям свет стоит над городом сухим,
и паства тянется с пустеющих парковок.
На свалке городской курится вечный дым,
и едет в бар любитель-антрополог.
Там он найдет следы скрещенья рас,
инбридинга угрюмое надбровье.
Там «Bourbon» пьёт немногословный WASP,[7]
брюнетка пьёт кампари цвета крови.
А бармен мечет сдачу, словно он
в большой игре переодетый шулер.
А тот, в углу, за кружкой, он давно
устал и незаметно умер.
К полуночи пустеет местный бар,
лишь два ирландца кий заточат мелом,
да кто-то в заднем зале до утра
так безнадежно в стену мечет стрелы.
Римские заметки