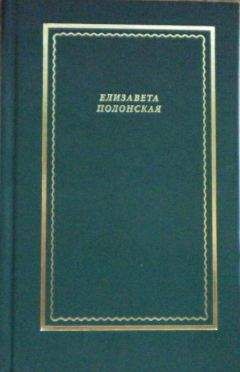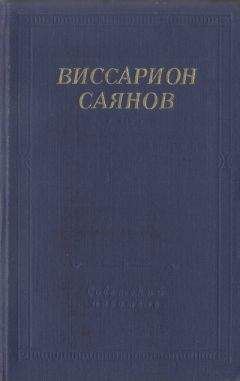Андрей Грицман - Вариации на тему. Избранные стихотворения и поэмы
Новогоднее
За стеклом маета утомлённой метели.
Суета в пенно-рваных клочьях побега.
Ностальгический вид измятой постели,
где нет человека.
Дед Мороз, в новогоднем подпитье, в ошибках потерян,
наливает Снегурочке стопку на счастье.
Как душа человека, счастлив он и несчастен.
Снегу рад – словно манне в Египте евреи.
Так живём: полумесяц налился багрово,
Красный Крест побледнел, а звезда Вифлеема
в опустевшем соборе зияет сурово
над пустыми яслями,
где нет человека.
* * *
В. Салимону
Вот так и разбросаны мы
по гулкой глобальной деревне.
А может быть, из Костромы
придёт мне e-mail до востребования.
А может, посыльный войдёт
и чуткий мой сон потревожит.
Вдруг сердце замрёт-отдохнёт,
но всё же не биться не сможет.
С экрана мерцает глагол —
во тьме воплощённое чувство.
Живой, про себя, монолог,
и чай, чтобы было не грустно
вприглядку с луной на двоих.
Но бренно небесное тело.
Горчит на кириллице стих
в Америке опустелой.
* * *
Неслучайность – есть форма надежды.
Одежда зимняя, парадная:
джинсы да куртка, окурок во рту.
Так и не знаю, где я иду.
Идея любви или, там, близости,
по меньшей мере, близорукости
в некой осенней лёгкости, хрупкости,
но не в нежности, в мягкой резкости.
И до самой кости ранена!
Осень, и вправду осень!
В школу опять вставать рано.
Вот и спасибо за птичий язык
птиц, улетевших на лето в Левант
к соли, слезам и к сухим ветрам.
Блажен, кто главное не сказал.
Вот иногда прилетает строка,
неуловима, бездумно-легка,
когда мусор берут за окном по утрам.
Часовщик
Там часовщик в своей берлоге
подводит вечные итоги,
и тикает нутро часов.
Его бессменная свобода,
его без возраста черты
напоминают мне о чём-то,
что я давно уже забыл.
Когда-то я здесь пиво пил
и в ближний парк гулять ходил.
Скорей всего, китаец он
(а не кореец, не японец),
но из провинции далёкой.
Мычит на странном языке,
и ing’а гул в гортани донной
плывёт на тёмном языке,
верней, не выйдя из гортани.
Когда-то я там рядом жил,
любил, дружил, потом уехал.
Китайца вижу много реже,
часы другие приобрёл.
И их чиню теперь в другом,
не азиатском, новом, чистом,
аптечном, хинном и искристом
обычном заведении.
Но иногда я проезжаю,
приторможу, гляжу: вот он,
согнувшись низко и безмолвно,
корпит неумолимо долго
над скорлупой моих часов.
Тот мой заказ давно просрочен,
мной не получен, в срок не сдан.
Китаец мой сосредоточен
и в вечный бой идти готов.
А я – в китайский ресторан.
* * *
Анатолию Кобенкову
«Сестру и брата…» Толя, для тебя
весь мир – сестра и брат. Прикосновенье
прокуренною кистью. Полюбя,
становишься ты близким на мгновенье,
потом на век. Ты помнишь этот век?
И он прошёл, и ты. Вслед за тобой
летят снежинки твоих лёгких строк,
как братский снег за светлой Ангарой.
Так ты и жил: в разрез, и на разрыв,
и навзничь. Но безумною тоской
наш стол накрыт, когда осенний дым
плывёт над первой павшею листвой.
Как мастерил, как вязью метко плёл,
как уходил в себя, собой играя!
Но там сквозил невидимый предел
обманчиво легко, в разрыв по краю.
В пути замёрз заморский мой ответ
на стрелы электронных писем ночью.
Тебя предупреждал я о Москве,
когда текли сквозь дым мы общей речью.
Да общей, вот такие, брат, дела…
Той речью мы породнены навечно.
Перекрестись, шевелится зола,
и лайнеры в ночи дрожат, как свечи.
Они летят на запад, на восток
и в никуда. Висят, как те созвездья,
и строк твоих целительный глоток
напоминает, что мы снова вместе
там, где за сопками – Ирадион. Живой Байкал
за Мёртвым твёрдым морем…
Прости меня: чего я наболтал!
Конечно, это горе, Толя, горе.
Гурзуф
Гурзуф маслянисто отваливается
замшелым телом,
открыткой глянцевой
по волне пены.
Я стою на палубе, с набережной крики.
Тот момент мимолётный,
незабвенный миг.
Ситец, пижамы, бельё на балконах,
козы на взгорье, дымок шашлычный.
Всё же, наверное, жизнь – не горе,
а просто разлука с делом личным.
Берег всё дальше, и лица близких
плывут по сумеркам за Карадагом, Форосом.
Звук летит до Феодосии над волнами, низко,
тающим голосом,
греческим островом,
невидимым, нелюдимым, дымным,
почти забытым на расстоянии.
Чего уж таить: полвека были,
полвека истории – заржавленным остовом,
как подбитый танкер в чаще кораллов,
и эхо неба как гул из раковины.
Пока слышны голоса, но довольно слабо,
уже всё глуше, ещё не сдавленно.
* * *
Усреднённый, согласно утруске,
иссушённый, согласно усушке, —
вот надел. Он, наверное, так же
плох, хорош ли, ни хуже, ни лучше.
Для тебя, невозможный, понятно,
говорю: не спеши в свою клетку.
Не грусти по тому, что там станет.
Будешь ты, как и я, с расставаньем
расставаться то утром, то ночью.
Серы кошки любви на рассвете.
Далеко плачут взрослые дети.
Тих и чист одиночества вечер.
Введенское
Возле Семёновской взять левака:
азербайджанец, Чечня или Нальчик.
Дальше – Бурденко,
Лефортова остров.
Словно висящий в сознании остов
в отсвете города – вроде огня.
Неизменяем знакомый уклад
в этой безвременной летней метели.
Я приезжаю сюда иногда.
Это отрава моя и отрада.
Словно лечебная эта беда
в чаще древесно-гранитного сада.
Всё здесь по-прежнему, даже трамвай.
Рельсы, ведущие в мутную бездну
фабрик и складов, в Кукуй, Разгуляй.
А за оградой – немые слова,
пластик цветов и иссохшие вести.
Пыльный гранит и медленный шорох,
крылья улыбки на мертвенном камне.
Я обращаюсь к лефортовской ели:
где мне искать эти старые тропы?
Вот и бреду к чугунным воротам
весь по колено в июньской метели.
Город
Город – не нагромождение
камня, дерева, цемента, пешеходов,
отбросов, пленной воды, шумов,
утренних и ночных, пронзительных
и сдавленных. Это – давление поля,
память боли и счастья,
whatever comes first,[5] как говорят
в страховом полисе.
Въезжая в этот город,
ты не застрахован ни от того,
ни от другого, когда, взорвав
ракетой выхлопа туннель
вертикального гаража,
вылетаешь на крышу —
и неожиданный свет Адриатики
дарит тебе ту же вечную, подгнивающую
суету Местре, которая открывалась
бедному Владиславу Фелициановичу
при прощании с любимой.
Воистину, одно из редчайших мест,
где душа плывёт – по Большому Каналу,
не заплатив два евро за катер,
потому что прозрачна,
и находит свою влажную нишу
между ущельями гетто
и нагретыми кипарисами Острова Мёртвых.
Она ест мороженое на набережной Мурано
со спутниками, с которыми нет
ничего общего, кроме одного:
седьмого чувства. Оно витает,
как воздушный змей над ржавым
румынским крейсером, над
каменной баранкой, над Мерчерией,
над всем этим тонущим в закате и гнили
счастьем, и на минуту кажется,
что время остановилось
в этот текучем и тонущем месте,
где место встречи с самим собой
изменить нельзя.
* * *