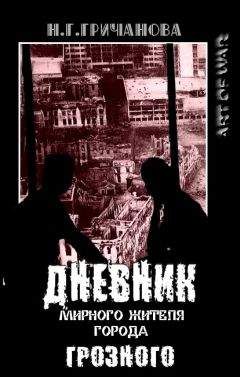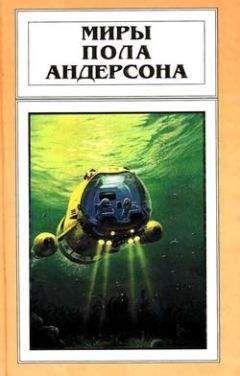Наталья Загвоздина - Дневник
Оставь день – дню.
…Как будто не Клондайк. В районной бакалее
прикуплены харчи. Добряк-автомобиль
дорожкой золотой завьюжен по колено…
Здесь пешим хорошо, но – нет (а то могли б).
И правдой быть стремясь, нисколько с ней не сходна
картина мира в час, когда пошли в купель:
вставали на пути леса, долины, холмы,
ликующая кровь готовилась кипеть…
Тогда вошли во чрев. И стали проще листьев,
трепещущих, тела, готовые лететь…
Вокруг текла вода, и жизнь дарила истин
собрание, собор, свободная легенд…
Сегодняшних. Когда нет надобы, есть проки
театра и фанфар, подложных от начал.
И только перебой сердечный пишет промах
под занавес… Душа тоскует по ночам.
Оставь хотя бы миг, хотя бы полдень мига.
Не полни суетой наследованный мир.
Езжай с своей арбой беспамятно и мимо
Источника. К столу, зовущему на пир.
Оставь день дню. В распадке, за холмом,
внутри лесов хоронится благое,
негромко, неназойливо – нагое
стояние. Оставь, не захламлён,
день дню. Прозрачной стрекозы
и угольного инока тропинки
площадно не нарушь и ни травинки
не отдавай под лезвие косы
алкающей. Ей целый мир что луг…
Оставь день дню, а тайное – могиле.
Чтобы и там, в одном пути, могли мы
набрать воды, нетронутой, к столу.
Г. Данилъевой
Падают шишки и мокрые флоксы в цвету,
шар золотой за зелёным забором дырявым,
поздняя птичка, мне кажется, птичий петух
что-то невнятное мереный час повторяет…
Мирная жизнь, подержаться хочу за тебя.
Сосны до неба и ели, друг с другом в обнимку.
Выйдешь, покажется, смотрят глазами телят
дети собачьи и тут же бесстыже отнимут
что-нибудь… Загород, август ещё не в конце.
Где-то Посад за стрекочущей лентой дороги.
Мы отдохнём ещё вместе в широком кольце
зрелого августа, нас звездопад не торопит…
Вьётся дымок, вьются счастье и грусть пополам.
Золотое тепло, только под вечер кутаюсь, ёжась.
И слегка поднимает над всем неземная волна,
и над всеми плыву, на волне не опознанной лёжа.
Е. Гращенковой
Изнеженная ветвь, тугая на поверку,
годящаяся в лук, в лучину… Как иссоп,
клонящийся легко, ликующая верба —
летящая стрела, корзины колесо,
вобравшей полный груз. Соседу и чужому
не зная проволок, несущая за так.
Не любящая путь, ведущий вкось и в омут,
не бросившая тех, кто очутился там…
Но, кажется, пора закончить возглашенье.
Как нравится лица серебряный оклад…
Как – дерева упор, выносливость, и шелест
несброшенной листвы, с Утешителем в лад.
Цветастое лето с душком
петуний, рассаженных в грядки.
Мне август гундит на ушко,
что осень, конечно, нагрянет…
Но сладко в Москве по ночам
на сретенье осени с летом.
Я трогаю их, помолчав,
и, слушая, следую следом…
Невзрачен осенний денёк
лишь разве на глаз верхогляда —
потоп не обрушен стеной,
но сыплет сквозь ситечко кряду
два месяца – сорок с лишком
завещанных дней на спасенье…
Чтоб из переправы осенней
мы выплыли с новым лицом.
Так в августе тронувшись с мест
кто как (на моторе, бумаге),
постигнем не равную смесь
горячего сердца, ума и
рассудка прохладного. С чем
застанет? На Родине Отчей —
окажется. Жизни качель,
склоняясь, отмеряет отчерк.
…Так конь плывёт за всадником, бежит
хозяйский пёс, вся тварь стучится в дверь…
Привязанности тайны рубежи —
невидимы, безмерны, верь не верь…
…Бегут по следу строчки, каждый знак
цепляется, по-своему зовёт…
Бессонницею, в бодрствованье, снах
являются и следуют за мной…
И совестно признаться, и прогнать
нет силы. Знать, по силам этот ход.
На встречу! На бумаге, у окна…
Как всадник, оказавшийся верхом.
Что человек! Мешочек сердца,
наполненный слегка,
что схоже со стручками перца
издалека.
Узнаешь боль – родишься. Без неё
нас нет. Есть – тени и тела.
Мы сущее страданьем познаём
и радостью. Глубокого тепла,
не солнечного, жертвенного, жест,
движение Вселенную творит,
закладывая будущего жертв
синодик, где назначены – твои.
Но если не болела голова, болел ли сердца
мешочек? В приснопамятные дни —
ещё румянец молодости… Серо
чело и небо к старости. От них
не отвернёшься, всмотришься. И чудно
цветёт на сером выстраданный свет.
И сердце отлетающее чует
потоки, выносящие – наверх.
А если на случай – в размен
годится, чем отроду живы,
и в персть обратился размер
на жизнь запасённого жита, —
как выкормить этакий рот?!
Как та, напитавшая сердцем?
Чтоб горечью полнилась роль
беспечно сравнившего с перцем
наполненный чем-то слегка
мешочек? Пустая затея.
Так следуют тени за тенью.
Посмотришь – ни тени следа.
Г. Д.
Ну что же, раз проще про стол
обеденный – ужин на славу!
Здесь некогда угол простой
держал за спиною заставу
вокзальную. Долгих гудков
сквозное сообщество, трели
свистковые… Скорый укор,
когда не услышали третий…
Всё кануло в Лету. Под шум,
не родственный доброму веку,
нестройные строки пишу,
с печалью смотря из-под века
на неоперённый скелет
взведённого сослепу дома…
Но, если зажмурюсь бездонно,
восставлю былое с колен…
И лишь за окошком герань,
что даже нездешняя, может,
меж временем тонкая грань
да столбик назойливых мошек…
Высаживай новый росток,
связующий цветом и корнем
живое, вселяя восторг
пред памяти чистой иконой.
Они росли и старились. В саду,
под яблоней, под грушею, под вишней
подвижное застыло неподвижно,
застыло оболочкою, а дух —
парил. На маковке июль.
Апостолы. Сограждане, собратья,
прошедшие в конец восток и юг —
начать и – собирать, собрать, собраться —
расти и возрастать! Возвышен ствол
над корнем. Здесь, под яблоней, под грушей,
под молодостью, старостью – под грузом
над корнем – наша жизнь, что волшебство.
Что чудо – дивен Бог в Своих делах!
Под деревом, под кровлею, под небом
бездонным – мы и Дух, что был и не был
в подвижных лёгких ящерок телах,
что замерли, застыли. Мнимый час
отсутствия движенья. В назиданье
идут часы. Чуть поровну – и дальше.
Чуть вровень – и быстрее. Мимо нас.
Вянут флоксы, один за другим…
Задержавшись во флоксах, спрошу —
что ещё этим летом досталось?
Поздних ягод стакан, парашют
паутины, хвороба да старость
уходящего племени. С ним
мне почти по пути. Тихий вечер.
…Вот и следующий чуточку сник,
опуская слабеющий венчик…
Упадёт. Разглядев высоко,
я испробую вяленой вишни…
И настигнет по новой закон,
по которому жизни – не вышло,
в городах, в удалении от…
Сморщен кожицей синий крыжовник.
И грозит приближение ос
беззащитного едким ожогом…
Груша падает. Яблочный год —
не про этот… Созрели орехи.
И готовится в скорый поход
сентября почтовая карета.
И лёг туман, и влага потекла,
как молоко… Округлою луною
глядело небо, водного стекла
касаясь… И казалось, что умоет
сегодня ночь Вселенную. В окне
горел огонь, и виделось былое…
И сердце жгло. И таяла в огне,
сгорая за ненужностью, полова
твоих речей, решений… Рукавом
смахнув росу обильную, вдыхаю
все запахи… Ступая в роковом
исходе… До рассвета – потакая.
Ещё свежо. Нетронута роса.
Ещё в капусте возятся улитки,
тяжёлые и скользкие (рога
подвижные по кончики умыты)…
По лабиринту новеньких траншей
прогуливаясь за полночь, под утро,
вытаптывают тропки не страшней,
чем наши (на глазок)… Когда не убран
бесценного единственный сосуд…
Душа! Передохни хоть на рассвете.
Твой путь – не в насыщение. На суд.
Куда – несёшь. Куда тебя несут.
А было – угнетение луны.
Овальный пруд. Круженье по овалу.
Подлунный путь тревожен. И уныл —
нет, грустен. Поднебесному подвалу
подобен полутёмному вполне…
На полной опечаленной луне
я вижу помраченья покрывало.
А было – сон с видением провала
глубокого. Не то теперь, без сна.
Пернатые чирикают без нас.
И небо – опрокинуто. Без дна.
В. В.