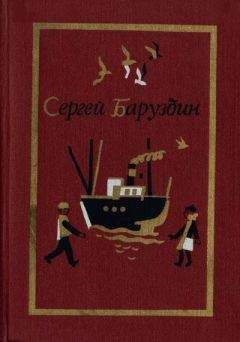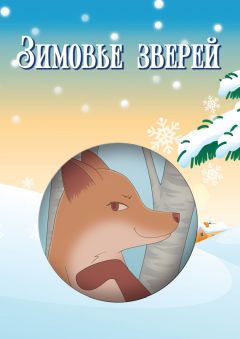Константин Арбенин - Зимовье зверей
1988
Песня про птицу
Жила на свете птица с руками вместо крыльев —
Случилось уродиться такому вот изъяну.
Все родственники птицы летали в изобилье,
А здесь — и клюв, и перья, а руки — как у обезьяны!
Назвали птицу выпью, и выпили за здравье,
И в лучшем зоопарке ей отвели клетушку,
А возле изголовья повесили заглавье:
Мечтами птицу не кормить, не то найдете в клетке тушку!
А птицу так и тянет летать,
У птицы той крылатая мать,
У птицы той летучий отец,
А она сама —
Будто нет ума —
Не может летать — и всё!
Не может летать…
Пришёл на помощь птице какой-то академик,
Ветеринар безродный с оплывшими глазами.
Пришёл на помощь птице отнюдь не ради денег,
А по иронии судьбы он тоже бредил небесами.
Он взял кататься птицу с собой на самолёте,
И вот они взлетели, и вот земли не стало.
А птица беспокойно ведёт себя в полёте,
А птица смотрит ввысь и ввысь, а птице мало, мало, мало!
А птицу так и тянет летать,
У птицы той крылатая мать,
У птицы той летучий отец,
А она сама —
Будто нет ума —
Не может летать — и всё!
Не может летать…
Но вдруг — memento mori! — но вдруг случилось горе!
Ветеринар отвлекся и даже не заметил,
Как птица, прыгнув в небо, упала камнем в море
И распугала хищных рыб своею благородной смертью.
И академик плакал, мешая слёзы с пылью,
Но чей-то мудрый голос сказал: «Себя не мучай.
Коль приключилась птица с руками вместо крыльев,
То где-то есть и человек — безрукий, но зато летучий!»
А птицу так и тянет летать,
У птицы той крылатая мать,
У птицы той летучий отец,
А она сама —
Будто нет ума —
Не может летать — и всё!
Не может летать…
1992
В запой
Не очень-то легко дойти пешком до неба,
А до тебя достать — куда трудней, ручаюсь я!
А мне кругом твердят, что истина — на дне, мол,
Ложь — где-то на поверхности, а правда — по краям.
Я здесь не для того. Я не люблю застолья.
Я на тебя любуюсь, о непьющий ангел мой!
Из всех путей к тебе, заведомо окольных,
Я выхожу на путь один — бессмысленно прямой.
Рву на себе тельняшку и не бреюсь ни хрена,
Стараюсь вызвать жалость тихой сапой,
А горло жжет предчувствие большого бодуна,
Последний бой — он беспробудный самый!
Я смотрю на тебя, я слежу за тобой,
Я забыл все другие дела.
Вот возьму и уйду в настоящий запой,
Чтобы ты мне его прервала.
Я в жизни не ходил ни в горы, ни в походы,
Не плавал, не нырял, тем паче — не влезал в забой.
Но, правда, иногда я в детстве выезжал на воды,
А тут — без подготовки прямиком вхожу в запой!
Вхожу туда сознательно, с сознанием борьбы;
Быть может, всё, что было раньше, было лишь прологом
К решительному шагу за гранёный край судьбы
Под самым общепризнанным предлогом.
Я спокоен, я собран, как новый герой,
Я уже закусил удила.
Я практически вышел в открытый запой,
Чтобы ты мне его прервала.
Мой хрупкий организм настолько непорочен,
Что выдержит — держу пари — бутылок эдак семь.
Но, правда, говорят, что есть пути и покороче,
Вот только б не сорваться — и не уйти бы насовсем!
Пусть ждут меня видения и абстинентный криз,
Пусть глюки машут пятками из стопки!
Но я не отступлюсь, поскольку это не каприз
И мой запой принципиальней забастовки!
Я уверен в себе. Я доволен собой.
Я хлещу эту дрянь из горла.
Я всё глубже и глубже вливаюсь в запой,
Чтобы ты мне его прервала.
Ты вечно за рулем, ты не лелеешь боли,
И искорки любви мне не раздуть в твоей душе,
А я — почти поэт, а раз поэт, то — алкоголик
(К чему же нарушать давно привитые клише)!
Ну вылечи меня, ну дай мне шанс остаться трезвым!
Ты видишь, я пьянею не от водки, а от глаз!
А ты который раз, как по стакану стеклорезом:
Не надо, мол, не надо, это песня не для нас!
Ах, вот они приехали! Но где же… где же ты!?
О, черт возьми, бригада-то другая!
Так в одночасье рушатся глобальные мечты.
Но я молчу, я не ропщу, я лишь икаю.
Я умру от стыда. Я не дамся живой.
Эвон как — за здорово живёшь!
Для чего я, скажите, пустился в запой,
Если ты мне его не прервёшь!?
Иду на брудершафт, сворачиваю в штопор,
Вздымаюсь на рога, попутно приспустив шасси.
И мертвою петлей себя затягиваю, чтобы
Всем встречным косякам кричать «пардон» или «мерси».
Нет, все, друзья, приехали — на следующей схожу!
Ей богу, очень срочно надо выйти!
Подайте мне стоп-кран! Я из-под крана остужу
Свои крупнокалиберные мысли!
Кто меня уважает, тот — полный вперёд!
Я б и сам, только мне не с руки…
Под крылом самолета о чем-то поёт
Зелёное море тоски…
Же не манж па сис жур! Подайте на леченье!
Ну, может быть, хоть кто-нибудь глоточком угостит!
Ведь я вам так скажу: что немцу развлеченье,
То русскому, простите, этот — основной инстинкт!
Ведь капельница, братцы, — это вам не се ля ви!
Под ней запал пропал, азарт разбился.
И нет ни дна, ни брода — ни в стакане, ни в любви.
За что боролся — тем и отравился!
Я послал всё к чертям, я смирился с судьбой:
Тихий час, пижама, кровать…
Но по ночам я мечтаю вернуться в запой —
Тот, какого тебе не прервать.
1998
От рождества до рождества
(25 декабря 1995 — 7 января 1996)
1.
Католики встречали Рождество,
А мы с тобой хлебали мутный джин,
И мы ещё не знали, каково,
Но понимали, что не избежим…
Я мир застал за прерванным постом
И брал тебя в свидетели опять,
А после — сортировочным мостом
Я уходил в плюс-минус двадцать пять.
Была эпоха долгой, но прошла,
Молчанье смыло золото с неё,
И бремя перезрелого ствола
Мы разрядили дырками над Ё,
И я свою дыру унёс с собой,
А ты свою — обрамила в кольцо…
И в ту же ночь серебряная боль
Свинцовый клык всадила мне в лицо.
Оставив веру тем, кто вечно спит,
Оставив горечь тем, кто сладко пьет,
Одну реальность — тем, кто мает быт,
Другую — тем, кто пестует пейот,
Я уповал на волю лишь и явь,
И пробовал держаться на своих,
И боли говорил: «Иду на я —
Пусть выживет один из нас двоих.»
Но кто я — безымянный имярек!
Не мне спускать судьбу на тормозах!
И не берег ни чёрт, ни оберег,
И боги отвернули образа.
И я не ждал пощады от друзей,
И не просил подмоги у врагов,
Я видел цифру скомканных затей —
Восьмерку пик из девяти кругов.
И петь за здравье вслух уже не мог,
А пел лишь про себя за упокой,
И то, что стал я половиной бог,
Мне вышло боком и одной ногой,
А половина та, что Человек,
С привычной долей странно не мирясь,
Из средств подлунных строила ковчег,
Способный в этой грязи не погрязть…
И ты пришла: две капли на стакан —
Я этот факт в Аду не утаю.
И, если буду только сам не слишком пьян,
Все под присягой повторю в Раю,
Как, разделив полуторный диван,
Мы плавно зависали на краю,
И время пело, будто тетива:
«Нет в смерти счастья, срок тебе даю!»
* * * Но рок — не слово, слог — не воробей,
Вульгарный стиль расплатой чреват, —
Я отдал всё от кроны до корней,
Я выдержал разгрузку в тыщу ватт.
Уж верно, на волне — как на волне,
Тем паче, под волной — как под волной!
Мой дух рождал трагедию извне,
Из музыки — не стой же под струной!
Крест на душе — и ни души окрест,
А боль сгибает копья, хоть рычи!
Я сел, уснул, но вовремя воскрес,
Когда пришли верховные врачи,
И я халаты их искрапил вдрызг,
Пытаясь отшутиться и пропасть,
И свой язык, как горький фильтр, грыз,
Улыбкой прикрывая волчью пасть.
Но кони понесли меня в пикет,
Песочным пульсом подсекая ритм.
Я не молился, я блевал в пакет
Коричневым зерном неспетых рифм,
А может, это были просто сгустки фар
Кареты алой с розовым крестом,
А изо рта сочился красный пар
И отлетал малиновым клестом…
И понял я, что всё! Что не резон
Пытаться выжить в эдакой пурге!
И, молча глядя на грядущий сон,
Ненужный проездной сжимал в руке.
Но бычилась досада через грусть:
Никто ж не видел, как прошла беда!
И я подумал: если не вернусь,
Пороша не оставит и следа.
И я твердил себе: не околей!
Ты эту явь видением пронзай!
И было мне той крови — до колен,
Я возвышался в ней, как сказочный Мазай.
И видел вновь, как северный олень
Несёт к развязке с криками «Банзай!»
И я шепчу, теряя сладкий плен:
«Счастливо, Герда. И — не замерзай.»
2.
То белые халаты облаков,
То синие бушлаты медсестёр…
Кто жаждет от святых и простаков,
Тот получает хворостом в костёр,
Тот получает клеветой в висок,
Изменой — в пах, обманом — под ребро
От выждавших предельно точный срок,
Чтоб приравнять к штыку свое перо.
Синело небо стертым потолком.
Часы остановились возле двух.
И непочатой жажды жирный ком
Захватывал в заложники мой дух.
И ртутный столбик превращался в нить,
Зашкаливая кашлем в кровосток.
Хотелось пить, хотелось просто пить —
Хоть каплю, хоть напёрсток, хоть глоток!
Желанье это, будто камертон,
Настраивало страх… А между тем,
Три феи, положив меня на стол,
Пахнули красотой нездешних тел.
И я, не дожидаясь той поры,
Когда посмертный список огласят,
Вдруг принял жизнь за правила игры:
Вдох-выдох — пятьдесят на пятьдесят.
И связь времен как будто порвалась,
И заплясало острое сверло,
И из-за плеч невидимый балласт
Мне вместо головы оторвало,
И, очертя в предельно краткий срок
Всех главных дат стальное острие,
Оторванный от материнских строп
Мой купол унесло в небытие…
И вот тогда знакомая мне тень,
Махнув рукой, сказала: «Ну, пошли.»
Я возразил: «Сейчас ночь, но будет день,
Еще не все истлели корабли!
Еще остались шансы у людей —
Пусть смогут то, что боги не смогли!
А если все труды их — дребедень,
Я сам свой пуп очищу от земли!»
* * * Смешав в коктейль изнанку с пустотой,
Преодолев исподы и посты,
Тоннелем с ультраправою резьбой
Я мчался в инфралевые пласты.
И контур мой, лишённый фаз и поз,
Лёг на прилавок страшного суда,
Но я-то знал, что это лишь наркоз,
К тому же — местный, местечковый, ерунда…
Но, видно, Рай уже недалеко…
Бес-дромадер с отмычкой от табу
Мне предложил в игольное ушко
Проникнуть на его чужом горбу.
И ангелы роились, как мошка,
Торгуя кодом адовых прикрас.
Наркоз крепчал. Сон лился с молотка,
На суть присяжных выливая сглаз.
Пока они шептались о цене,
Смакуя быль в кулисах-небесах,
Их справедливость показала мне
Две ягодицы на одних весах.
И я с досады ахнул в молоко,
Разбил мишень и сгрёб двадцать один.
И кто-то крикнул: «Верное очко!
Пойдемте, судьи, прочь — он победил.»
И чудо, как всегда, произошло,
И, пожурив, меня вернули вспять,
И, опершись на правое крыло,
Я левым боком стал атаковать,
Я выбил дверь в обратно — пустотой,
Распаханной в гортанные низы…
И боги сняли нимбы предо мной,
И черти спели: «Ай да сукин сын!»
Я возвращался к песням и друзьям,
Мой мир был цел, и я в нём невредим.
И заживал мой резаный изъян,
Мой теневой фамильный побратим.
И больше не деля на инь и ян
Пространство между окон и картин,
Я боли говорил: «Иду на я.
Ты уходи, родная, уходи.»
* * * Пока я пел, зима оболгалась
И справила второе Рождество.
И в мире снова наступил баланс,
Чей смысл — никому и никого.
И, чтоб опять не начинать с нуля,
Я начал ниже — с самых минусов…
И под ногами напряглась Земля
И сморщила виски у полюсов.
1998