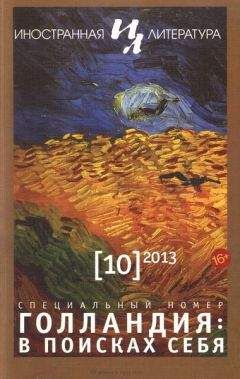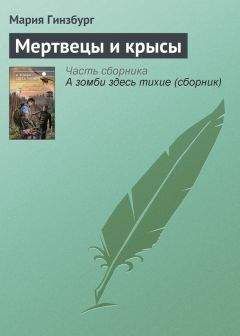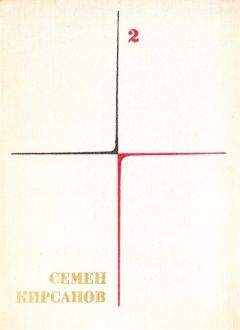Семён Кирсанов - Поэтические поиски и произведения последних лет
Андрей Приходько
СВЕТ ВО ТЬМЕ
ВоспоминаньеБыл в детстве ранний свет. Как рано он утрачен —
сияющий, цветной!
«Сияющий»? «Цветной»? — в младенчестве незрячем
смысл этих слов покрылся пеленой.
Как эту темноту значением заполнить?
Свет в раннем детстве был…
Мучительно — забыть, мучительно — запомнить.
Я не запомнил. Нет! Я не забыл!
Приемник радио — товарищ аккуратный,
чтец, гость и поводырь, и собеседник мой,
ты даришь по утрам кремлевские куранты
и по вселенной странствуешь со мной.
С тобой не страшно мне жить в невидимке-мире, —
мир звучен, слышен мне, объемен и широк!
С тобой не трудно мне сумерничать в квартире,
пускай один, зато — уже не одинок.
Неловкой жалостью не можешь ты обидеть!
Мой всеволновый друг, в тебе звучанье дня,
все, чтобы слышать, есть, и ничего, чтоб видеть,
незрячею судьбой похожий на меня.
Вчера о шапке-невидимке
ты прочитала сказку мне,
о мальчике и поединке
с драконом в сказочной стране.
Стрела впилась дракону в тело,
и шапка мальчика спасла…
Но ты зачем ее надела
вот здесь, у нашего стола?
Тебя не видеть — больно, трудно
И я шепчу тебе: — Сними,
хоть на минуту, на секунду,
на миг ее приподними
и покажи полоску света! —
Но ты печально молвишь: — Друг!
Я не могу: она надета
лишь для тебя — на все вокруг…
Мне хорошо, я тосковать не смею,
когда звучит твой голос молодой…
Прочти из Брэма о слепом протее,
играющем в пещерке под водой.
Как весел он в жилище игл и слизней.
Потом прочти о земляном кроте.
Мне нужно знать, что есть слепые жизни,
не жаждущие света в слепоте.
Я разве плачу? Видишь — я спокоен.
От этих слов расплакаться нельзя.
Я б рад услышать что-нибудь такое,
чтоб хоть слезой почувствовать глаза.
Они боятся темноты. Не помню.
Мы этих зримых страхов лишены.
Но есть боязнь, доступная слепому, —
страх полной, неподвижной тишины.
Нет ничего. Нет пенья. Нет звучанья.
Нет расстоянья от меня до слов.
Но, заблудившись в темноте молчанья,
цепляюсь я за тиканье часов.
Соломинка в неощутимом море,
ниточка звука, я тебя держу
по еле слышной звуковой опоре
секунда за секундой дохожу
до капель в кухне, до шипенья жира,
лая в саду и всплеска над листвой,
до стука в дверь, до чудных шумов мира,
до тишины — где только голос твой.
Все вещи в комнате со мною дружат.
Ложбинки, выступы, шероховатый стол
мне дружно шепчут: «Не споткнись, Андрюша!
Ступай спокойно. Повернись. Постой.
Я — дверь направо. Я — комод налево.
Ни шагу, я — картина на стене…»
У пальцев реет, легкая, на нервах,
душа вещей, привыкшая ко мне.
Меня однажды повели на вечер.
Оставили. В буфет пошла жена.
Вдруг захотелось мне забыть увечье.
Пошел и понял пальцами — стена.
Я шел вперед, но странно, что не прямо.
Скользящий пол плыл на моем пути.
У пальцев справа не кончался мрамор,
шел и не мог к чему-нибудь прийти.
И вот остановился, утомленный,
жалея неудачника-себя.
— Андрюшенька! Ты шел вокруг колонны.
Ты здесь, где я оставила тебя.
Возможно, был тот мрамор драгоценным, —
мне не хотелось оставаться тут,
хотелось мне вернуться к честным стенам,
что головы не кружат и не лгут.
О, ветка-спутница, о, палка-поводырка,
всю жизнь стучащая о шар земной!
Ты шаг к врагу в начале поединка,
посредница между землей и мной.
Земных дорог ты выучила шорох
и стала чуткой, слышащей, живой —
не для опоры, нет, для разговора
с травинкой, с камнем, с лужей дождевой.
Мне от земли приносит прямо в руки
депеши ям, булыжника и трав
без опозданья, в тихом, срочном стуке
мой верный деревянный телеграф.
Как горячо прикосновенье солнца!
Сижу в саду, за теплотой следя.
И вдруг ладони холодком коснется
жилица неба — капелька дождя.
И я боюсь ее случайно сбросить —
пускай живет, теплея, на руке!
Она дрожит, она пощады просит,
и жизнь ее висит на волоске.
Так нежно коже доверяет влага,
похожая на чистую росу.
Раз дождь слепой принес такое благо,
неужто людям я не принесу?
У аппаратов чутких и ушастых,
где каждый куст насторожен и тих,
поставят нас — внимательных слепых —
точнейшим слухом охранять участок.
Пусть боль моя войдет в солдатский ряд!
Сличая звук с гудением в приборах,
я раньше всех услышу грозный шорох
и прежде зрячих донесу: летят!
Я распознал опасность в звуке этом,
подам сигнал — сирена запоет,
на встречный гул взлетает самолет,
и гасят то, что называют светом.
Слепой солдат готов на подвиг свой.
Впишите в книжку — «к обороне годен».
И есть мечта — на сердце тронуть орден,
металл звезды с эмалью боевой.
Твои стихи я прочитал в газете.
Да! Я прочел! Глазами — каждый стих!
Не для меня — для множества слепых
надеждой просияли строки эти.
А я не слеп. Уж год прошел, как врач
свет и цвета вложил в мои глазницы.
Я вижу все! Но изредка мне снится,
что вижу сон, что ночь, что я незряч.
Лишь иногда привычка воздух трогать
мою ладонь вытягивает вдруг
и навсегда — желанье взять за локоть
тебя, жена, мой озаренный друг.
Как вижу я! Как утоляю голод
всем блеском разноцветной кутерьмы!
Так в первый раз выходит узник в город
из сумрака пожизненной тюрьмы!
Зачем стихи? Я чувствую — не выйдет!
Затмило песню зрением во мне.
Нет! Не писать! Нет, только видеть, видеть
тебя, и жизнь, и солнце в глубине.
И счастлив я, что не руками шарю,
а вижу, вижу, как другим нельзя, —
твои, как карту карих полушарий,
два новых мира — милые глаза!
Богдан Гринберг
ЭКСТРАКТЫ
При чтении летописи
врезалось
беспощадное: «Погибоша, аки обре».
Обры!..
Почему и когда погибоша
эти обры?
Может быть, обры были прекрасные люди —
пастухи, хлебопашцы, охотники?..
Именно обры, может, чурались
набегов, поджогов, сдирания скальпов
и воинственных плясок на мертвецах?
Может, именно они потому погибоша?
Или, может быть, где-нибудь
ходит единственный сохранившийся обр?
Какая чудесная мысль:
найти и оживить погибшее племя!
Дать ему письменность и язык,
вышивки, резьбы и сразу современные нравы
и взгляды!
О! Я приехал в Обрскую область!
Здравствуйте, обры!
Как прекрасно, что вы существуете,
из пепла возникшее племя!
Теперь уже никто не «погибоша, аки обре»,
ибо сами обры не погибоша!
Ни в одном из еврейских погромов
ты не замешана, Русь.
Ни пушинки из местечковых подушек,
ни кровинки
на твоей домотканной совести
нет.
Сошла с молодого лица
черной сотни черная оспа.
Ты есть и была снеговая
сестра милосердья
раненых и пропавших без вести
народов.
Опять, опять задышало
прощальными морозами
и первыми мимозами,
и не можем мы
не ступать
каблуками в павлинью грязь,
и не можем мы
не влипать
в паутину лиловых глаз,
и не можем мы быть вельможами,
потому что весенний пар
одинок без весенних пар,
потому что Арбат мне брат,
и у стен есть тень,
и надо прижаться нам
в подворотнях к своим теням,
за которыми мы, как тени,
ходим в день весенний.
Девочка из сверхуральских редкостей
в десятом классе учит
тригонометрию.
Счастливая тригонометрия
ее рукою ежедневно трогается.
Напрасно я прошу:
— Читай меня, решай,
немедленно возьми себе в учебники!
Я буду очень верная тригонометрия.
Передо мной ребро вопроса:
выбрать меньшее из зол —
мысль о тебе
или зубную боль.
Зубную боль окаплешь мятной ваткой,
нерв утихает отдыхать.
Зубную боль заговоришь ночною сказкой,
а мысль о тебе
даже за чтением Дюма
и то царапается, копается в себе.
О, никакой гудящей болью
не успокоишь мысли о тебе,
а мысль о тебе
рукой снимает самую чудовищную боль!
Как несовершенна медицина —
не могут человеку устроить порядочную боль,
чтоб высверлить из жизни
мысль о тебе.
О, телефонные монтеры!
Невыносимо!
Снимите аппарат за неуплату в срок,
сорвите все щебечущие провода,
и пусть не будет этого убийцы встреч.
Все дни мои нанизаны
на проволочку золотого голоса.
Жизнь начинается у трубки тут,
кончается у трубки там.
Тащу ее к себе зеленою косичкою шнура,
никак не вытащу все остальное к голосу.
Так оно и будет.
Явлюсь в милицию с охапкой проводов
отрезанных,
где в каждом миллиметре проволочки
есть мое:
— Иди ко мне!
Вяжите.
Если были у меня увлечения
среди бреда болезни «никогонелюбить» —
было одно исключение,
исцелительными письмами лечение
сумасшедшей и любящей девушки,
письмами,
которых никогда не забыть,
лечение.
Из Ленинграда в казенных конвертах
со сноской на мост Грибоедова
они приезжают ко мне…
Я ее не «люблю», она слишком высокая,
кареокая,
большая лицом и глазами,
а хочет казаться мне по плечо.
И еще,
она подгибает колени и голову набок,
и живет в Ленинграде, чтоб не мучиться
близко около злого меня.
Письма на бумаге для денег
(она служит в Гознаке, где печатают
деньги).
Я ни разу ей не дарил ничего,
ни духов, ни чулок,
не был с нею в кино и в театре,
яблок не приносил из буфета
в торжественный зал.
Два чудовищных года любит меня,
а могла бы любить Владислава
(это жених,
инженер,
двадцать восемь лет,
на пять сантиметров выше меня).
Когда она пишет, мне кажется,
я душою похож на ее слова.
А любить —
нет и нет
наотрез.
Она слишком высокая,
и мне неудобно с нею стоять в антракте.
Я не тот человек, я ломаю две жизни,
две любви, две семьи
из-за восьми сантиметров разницы в росте.
Но письма! В целительных письмах
я нахожу целебный экстракт,
я пользуюсь ею,
пользуюсь больше, чем можно.
Она, вероятно, умрет,
как девушка-донор во время переливания
крови
больному
в письмах
из Ленинграда в Козловск.
Когда я делюсь желаньем
с товарищем,
а он отдаряет меня исполненьем желанья;
когда «воскресенье» похоже
на «понедельник»
и работают шесть воскресений в неделю
подряд;
когда все уступают друг другу дорогу
и поэтому нет толкотни;
когда не остается в городе ни одной
желающей стать домашней работницей;
когда
никто не говорит «никогда»;
когда исчезает взгляд на вещи
как взгляд покупателей;
когда крикнуть «люблю тебя»
можно при многих прохожих,
не опасаясь усмешек;
когда «человеку грустно»
звучит,
как «человек заболел»,
и имеется скорая помощь для несчастливых;
и когда еще и еще
другое, о чем я еще напишу, —
это мой взгляд на вещи.
С глаз долой, базарные жадные вещи,
не на вас мой взгляд.
Мы обязательно будем
старинными.
Даже и я,
новый, как металлическая деталь
в целлофане,
буду древним,
как кладбищенский римлянин.
Жил я в годы грубых машин,
первобытного радио,
примитивно-сложных моторов,
на заре примененья атомных сил.
Будущее не похоже
на настоящее будущее,
как гороскоп на биографию.
Прошлое —
крошечное, как дверная щель.
Мы — урок,
отмеченный крестиком школьника:
дсп
(до сих пор).
И это так далеко —
в глубине веков!
Обнимитесь
и поцелуйтесь,
и усните —
щекой на плече.
Так придумала
молодая глубокая древность
и дсп —
до сих пор,
до сорок пятого века,
не изменила человеческая мысль.
Война во Франции приносит
много новых рифм.
Особенно на слово «умер».
Когда уже и рот
от смерти сиз —
лежит у провода связист,
а буквы все выстукивает зуммер.
Как только
немцы применили миномет,
поэты кинулись записывать в блокноты
неполный ассонанс на слово «мертв».
Везет на рифмы
смерти —
их сбрасывают вниз десантами
в Бизерте.
Безрезультатно я сижу ночами
над новой рифмой к слову «жизнь».
На оккупированной территории
из словарей исчезло
это слово,
замаранное черным:
жизнь.
Когда птицы летели,
этого не было.
Птицы только садились на шпили,
птицы пили
фонтанную воду,
клевали кленовые пропеллеры.
Побудут на карнизах,
дождь переждут,
исполнят чириканье на бульваре —
и дальше, расшаркиваясь серым крылом,
летят,
не сделав больно городу.
А эти
пролетели —
не стало города.
Флюгерные вышки
упали в фонтаны.
Рукотворною молнией
расщеплены клены,
залетные птицы прибиты к карнизам,
а карнизы обрызгали штукатуркой асфальт.
Кстати,
нет бульвара —
есть четыре воронки
с обгорелыми скамьями по краям.
Идет черный угольный дождь.
Тяжелыми
нефтяными
каплями.
Это траур неба по городу.
Дождь, почерневший от взрывов,
из черного крепа скорбящих туч.
Черное
течет по фаянсовой ванне,
повисшей на обрушенной стене.
А ниже висит березовая спальня,
и к зеркалу прислонился телеграфный столб.
Зачем, зачем разбитому зеркалу
висеть на водостоке вниз головой?
Зачем платяному шкафу
прикрываться вывеской «Кафе»?
К чему это — рваться надвое
комнате, где жили влюбленные двое?
Не понимаю,
не понимают даже птицы,
крича, улетающие оттуда,
куда прилетают тяжело дышащие,
беспощадные убийцы,
лишь издалека похожие на птиц.
Я пою,
о чем никогда не пели поэты.
Я пою твою неизмену.
Об этом нет романсов, нет романов,
нет картин.
Измена и ревность,
вздувшиеся кровеносные сосуды
бешеных глаз:
— Изменила! Змея! —
Я же хочу воспеть твою неизмену.
Ухожу —
твои глаза без меня не ищут чужого
осторожного взгляда.
Руки не боятся обнять хорошего парня —
друга по школьной парте.
Измена боится тебя
и ходит другим переулком.
Я пою твою неизмену,
которую ты привозишь ко мне
и с сочинских пляжей,
и со спортивной площадки,
и с кружка диамата,
и отовсюду,
всегда
верна себе неизменно!
Упрек:
— Ты ни разу мне не сказал:
«Люблю тебя!»
— Верно.
Я не сказал.
А разве земля говорит:
«Я верчусь»?
Нет, она просто вертится,
не подкрепляя это словами
и голову нам не кружа.
Вертится так же точно, верно,
ежедневно и неустанно,
как я
люблю тебя.
Глеб Насущный