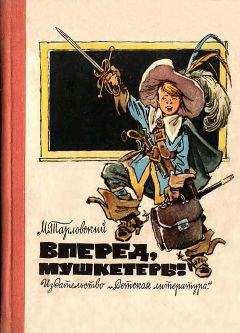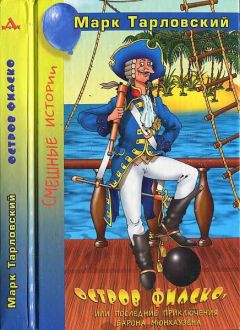Марк Тарловский - Молчаливый полет
4 марта 1925
Ярость предка[61]
Для каждого из молодых людей,
Когда ему ни в чем не повезло бы,
К тем, кто удачливей, к тем, кто сытей,
Возможны вспышки зависти и злобы. —
Любимцам женщин, чей нетруден хлеб,
Чей счет от жизни наперед отстрочен,
Он может крикнуть, что их бог нелеп,
И, сквернословя, надавать пощечин.
А если бы ожесточенный дух
Его смутил завистливым стремленьем
И злобой к тем, чей жар давно потух
С давным-давно ушедшим поколеньем,
То и тогда, смертельно побледнев,
Пред склепом их, пред их изображеньем,
Он утолил бы свой бессильный гнев
Слепым, но справедливым разрушеньем…
Ни к тем, кто жив, ни к тем, кто в прошлом спит, —
К тем, кто в грядущем, тайном и неблизком,
К ним, шествующим, счет моих обид
И список жалоб с безнадежным иском!
От наших рук тебя твой возраст спас,
И все мы в жертву твоего наследья,
О правнук наш, сияющий за нас
С вершин ненаступившего столетья!
Декабрь 1925
История жизни[62]
Розой отрочества туманного,
В ожиданьи усекновения,
Голова моя Иоаннова
Вознеслась над садом забвения.
Но как буря — страсть Саломеина,
Небо юности хлещут вороны,
Роза сорвана и развеяна
И несётся в разные стороны.
А ложится жатвою Ирода,
После боя чёрными хлопьями,
Где долина старости вырыта
И покрыта ржавыми копьями…
9 декабря 1924
Земная слава[63]
Отяжелела славою земля —
И трехтысячелетним взором
Рим императора и короля
Обводит выветренный форум.
Гляди: он жив! он в мире вновь один!
В нем нет ни лап, ни колоколен,
И боги льстят, и боги просят вин,
И цезарь весел и доволен.
Опять рычат объезженные львы,
Опять подожжена столица,
Лавровый нимб — у каждой головы
И в каждой матери — волчица.
Пусть над землей — безмолвие и гнет,
И горьки дни, и ночи тяжки —
Но Рим горит, но слава сердце жжет,
И львы у цезаря в запряжке!
Сентябрь 1921
Расхищаемый музей[64]
Которое солнце заходит,
А звезды, как прежде, дрожат
И древнюю землю уводят
На путь ежедневных утрат.
И вечер — и снова немая
Утрата скользит от меня,
Точеные руки ломая
И греческим торсом звеня.
И с каждой ночною потерей
Бездушие гипсовых глаз,
Безмолвие ваших мистерий,
Богини, теряю я в вас.
Не жду откровения свыше,
Но вижу: пустеет музей,
Чредой оголяются ниши
Души одичалой моей.
Директор? Но он равнодушен:
Не он тут поставил богинь,
Не он их из пыльных отдушин
Пускает в небесную синь.
Когда же последние пери
Закончат последний побег:
Директор уйдет, а на двери
Напишет: «закрыто навек».
Август 1921 — декабрь 1925
Безбрачие[65]
Вы холосты, братья, и молоды вы,
Вам слава под окнами крутит шарманку
И светлой невестой с вуалью вдовы
Вас будит, и ждет, и зовет спозаранку.
У каждого подвиг, у каждого честь,
И каждый по-своему светел и славе —
Способностей масса, талантов — не счесть,
И выскочка жалостный гению равен.
Пока мы свободны от брачных тенет,
Мы боль одиночества музыкой лечим,
Но песня иссякнет, и слава уйдет,
Шарманку хромую взваливши на плечи.
И женщина сядет за нашим столом,
И белые руки на скатерть положит,
И вороном, вникшим в Эдгаровый дом,
Хозяйскую душу, как нишу, изгложет.
13 ноября 1925
Муза[66]
Мышка серая понимает
И котенка и западню,
Хлопотливо не начинает
Долговечную беготню.
В долгий день под потолками дремлет,
Но, лишь лампа задребезжит,
Мышка гласу вечера внемлет,
Встрепенется и побежит.
Мать бросает свою корзину
И пускается наутек…
Это муза к Вашему сыну
Заглянула на огонек!
Это дщерь чернильного рая,
И в родного предка ее
Первый Гамлет вонзил, рыдая,
Бутафорское лезвие!
И намного, намного позже
Пращур этого вот зверька
По автографу «Птички божьей»
Пробегал, робея слегка.
Вот грызет она хлеб и сало,
А быть может, бабка ее
Нам про Блока бы рассказала,
Про житье его да бытье…
Вот протягиваются нити
Через книжную чешую…
Мам милая, не гоните
Музу бархатную мою!
9 декабря 1927
Мир[67]
Когда в груди слишком большое счастье,
А сила слов слишком невелика,
Мы говорим, что мы хотим обнять
Весь этот мир, суровый и прекрасный.
Был, помню, день, каким-то счастьем полный,
Настала ночь, и вот приснилось мне,
Что я действительно могу обнять
Висящую в пространстве нашу землю.
Ее обуреваемое тело
Я у экватора перехватил,
И тропики, как ленты живота,
Дохнули зноем на мои суставы;
Ее лица — я полюса коснулся,
Но злые полыньи на месте глаз,
Но глетчерный оскал на месте рта
Пропели мне о холоде и смерти…
Когда я никну над горячим телом
Земной сестры, я вижу иногда:
Ее глаза и губы холодны,
Как северные льды родной планеты;
Как северные льды родной планеты,
Ее глаза и губы холодны. —
— Какой прекрасный и суровый мир! —
Кричит титан, разжав кольцо объятий.
Сентябрь 1928
Точка зрения[68]
Путем наблюдений над собственным телом
Закон сновидений открыл я в себе,
Как тысячи лет его открывали,
Как тысячи лет откроют еще:
Ложишься направо — спокойствием веет,
Колышется радуга дивных удач,
Налево ложишься — и сердце бунтует,
И струи кошмара нещадно секут..
Как трудно расстаться с виденьями счастья
Согретому лаской волшебного сна
Для тягостной лямки сознательной жизни,
Для явственной качки с обоих боков!
И как хорошо продираться спросонок,
Еще не поднявши заплаканных век,
Сквозь дебри кошмара к открытым пространствам
Простых огорчений и ясных трудов!
Тревожные волны бездонного бреда
Я с левого бока люблю загребать —
Мне ясно оттуда: действительность лучше,
Какою бы серой она ни была.
Но если бы знал я, что больше не встану,
Что негде спастись от последнего сна,
Последнюю ночь, изменивши привычке,
Я мирно провел бы на правом боку.
Апрель 1928
Косноязычье[69]
Валунами созвучий,
Водопадами строк
Рвется дух мой ревучий
Через горный отрог.
Строг и невыразим ты,
Жесткий мой матерьял:
Несговорчива Мзымта,
Замкнут дымный Дарьял!
И в цепях пораженья,
Напряженно-немой,
Прометеевой тенью
Голос корчится мой;
Тщится косноязычье
Печень-речь мою съесть. —
Это — коршунья, сычья,
Олимпийская месть.
На альпийские травы
И на глетчерный лед
Крутоклювой расправы
Молчаливый полет!
Август 1928