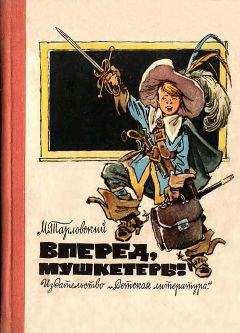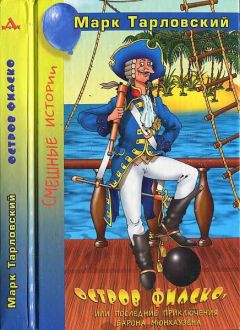Марк Тарловский - Молчаливый полет
22 июля 1929
Ай-Петри и Карадаг[52]
На Ай-Петри не было туч,
И сказала Ай-Петри богу:
— По примеру кавказских круч
Я хочу облачиться в тогу.
Я — красавица меж вершин,
А красавице льстит одежда…
Расспроси об этом мужчин,
Если сам ты в этом невежда.
И еще мне нужен покров,
Чтоб отдать его Карадагу:
Он страдает от злых врагов,
И мне жалко его беднягу. —
Бог ответил, даря ей ткань
Из добротной небесной влаги:
— Семя Евы рядится в дрянь,
только ангелы ходят наги.
Этим суетным городам,
Осененным тобой, в угоду
Ты заимствовала у дам
Переменчивую их моду.
Но не видыван в городах
Голый воин рати небесной,
Божий первенец, Карадаг,
В бездну павший и ставший бездной.
Пусть же стынет его броня
На безоблачном жестком ветре,
От гордыни его храня
И от женственных чар Ай-Петри.
Всё размоется. И сползут
Складки сланца во влажной ткани.
Но свершу я мой страшный суд
На нетленном моем вулкане. —
7 июля 1929
Сфинксы[53]
Знойный ветер играет песком
И заносит простертые груди,
И подножия наши тайком
Скарабеи обходят, как люди.
Мы глядим на рыбачий улов,
Равнодушные сфинксы загара,
А вокруг — пирамиды холмов
И верблюжьего моря Сахара.
Пролежать бы три тысячи лет,
А потом — отряхнуться от лени
И, упершись в засыпанный плед,
Распрямить золотые колени!
11 июля 1929
Коктебель[54]
Бывают минуты — их нежно обходят молчаньем,
Для них оскорбительны звуки похвальных речей…
И люди бывают — восторгов минутная дань им
Больней равнодушья и корня забвенья горчей.
Не так ли и он, средоточие царственной мысли,
Святой Коктебель, ко льстеца неколеблемо глух? —
На кратер ли взглянем, на степь ли, на зыбь ли, на мыс ли —
Бессильно над ним скользит человеческий пух.
В публичной Алупке, в разбойном гнезде Балаклавы,
Восторгу и щедрости отклик нетрудно найти.
Но брось портмоне в неподкупном судилище лавы
И честь Коктебеля коварных стихов не плети.
Как будто земной, к неземному он тянется кряжу,
Забытый богами чертеж несвершенной мечты. —
Хотите — купайтесь, хотите — гуляйте по пляжу,
Но только молчите, но только не лезьте на «ты».
3 июля 1929
Гроза в Коктебеле[55]
Трехсложная туча с противоположной землей
Какие-то древние вечные счеты сводила, —
Таранила молнией, полосовала струей,
Лежачую била, на сонную падала с тыла.
А люди кричали: — Строга твоя кара, строга!
Пройди себе краем и малых детей не рази ты! —
Но знает ли воин, уродуя темя врага,
Насколько невинны секомые им паразиты…
14 июля 1929
Утешительное письмо[56]
А писем нет… И Вам неведом
Владеющий Почтамтом рок. —
За завтраком и за обедом
Вы ждёте запоздалых строк…
О, как медлительно, как туго
Ворочаются пальцы друга,
Не снисходящего к письму,
Глухого к счастью своему!
Но, слогом не пленяя новым,
Склоняя Вас к иным словам,
С приветом, незнакомым Вам,
Нежданное я шлю письмо Вам,
И сердца неуемный бой
Глушу онегинской строфой.
Строфа бессмертного романа,
Недюжинных поэтов гуж,
Она пригодна для обмана
Обманом уязвленных душ.
В какой же стиль ее оправить?
Каким эпиграфом возглавить?
Врагу волшебниц и мадонн
Какой приличествует тон? —
Я перелистывал письмовник,
Незаменимый для портних, —
Но я не пакостный жених,
И не кузен, и не любовник…
Забыта вежливая «ять»,
И я не знаю, как начать. —
Ну, как живете? Что видали?
В каком вращаетесь кругу?
Какие блещут этуали
На Коктебельском берегу?
А, впрочем, праздные вопросы
Стряхнем, как пепел с папиросы,
И пусть курится до зари
Наркотик лёгкий causerie[57].
Есть в Коктебеле полу-терем,
Полу-чердак, полу-чертог.
Живет в нем женщина-цветок,
Хранимая покорным зверем.
Кто эти двое? — Вы да я
(Признаюсь, правды не тая).
На севере, в потоке будней,
Всё так меняется, спеша,
Но в зыбке гор, в медузьем студне
Незыблема моя душа.
Заворожённая собою,
Она покорствует покою,
И только раз за пять недель
Сменил мне душу Коктебель.
Его характер изначальный
Бессменно властвовал во мне,
Затем что сменность глубине
Обратно-пропорциональна
(Чем буря более сильна,
Тем долее её волна).
Он мэтром, genius'ом loci[58],
Явил свой мужественный лик,
И я тонул в глухом колодце
Проповедей его и книг,
И, на суровом Карадаге
Учась возвышенной отваге,
Сменил на холостую стать
Любовь к «жене» и веру в мать.
Я был — как вахтенный в походе,
Как праведник, как слон-самец,
В плену забывший, наконец,
Подруг, живущих на свободе,
И долго радовался там
Мужского ветра голосам.
Но дни бесстрастья пробежали,
И, каменный ещё вчера,
Мир Коктебеля в мягкой шали
Не брат мне больше, а сестра;
Мне звёзды — женскими глазами,
Мне волны — женскими губами,
Мне суша — вышитым платком, —
И эта женственность — кругом.
Шарманщик переводит валик
(За маршем воли — нежный бред),
И, свет преображая в свет,
В глазу меняется хрусталик,
А сердце шепчет: — Брось перо
И чувствуй — просто и остро!
2 августа 1929
III. ПУТЕШЕСТВИЕ В БУДУЩЕЕ
Морская болезнь[59]
Энергия хлещет за борт
И вызов кидает бездне,
И молодость пишет рапорт
В приливе морской болезни. —
И пишет она, что так-то
И так-то обидны факты,
И с берегом нет контакта,
И отдыха нет от вахты —
«Простите мое нахальство,
Но слишком душу качает…»
И с флагмана ей начальство
По радио отвечает:
— Чем старше судно морское,
Тем глубже его осадка —
Сначала нам нет покоя,
А после нам очень сладко.
И жребий, для всех единый,
Состарит ваш юный трепет
И парализует тиной
И ракушками облепит, —
Вперед же, смолою вея
По картам следуя здраво:
Гребите пока левее —
Успеете взять направо!
13 июля 1926
Песок[60]
«Noli tangere circulos meos!»
— Не касайся моих чертежей, —
Не смывай их, о девушка Эос
Из-за влажных ночных рубежей!
Роковые колышутся зори,
Непогодою дышит восток,
И приливное рушится море
На исчерченный за ночь песок.
Под веслом со случайной триремы
В Архимедовой мудрой руке
Непонятный узор теоремы
Возникал на прибрежном песке.
И в изгнаньи, с холодной отвагой,
Чертежи политических карт,
Как учитель, изломанной шпагой
Выводил по земле Бонапарт.
И, подобный небесному гостю,
Отрешенный от мира поэт
На куртине нервической тростью
Проводил фантастический след.
Но, как варвар, жестокое, утро
И прилив одичалых морей
Отомстили — и старости мудрой,
И отваге, и грезе моей…
4 марта 1925