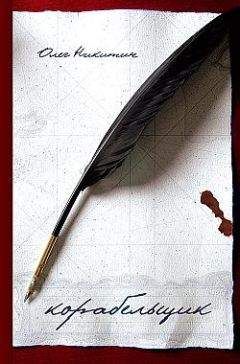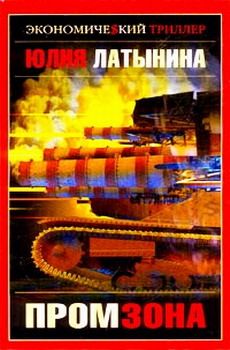Харри Мартинсон - Аниара
64
Сгорели мы в Ксиномбре.
Сгорели — поумнели.
Мы будем вам являться,
чтоб вы нас не забыли.
Как снег, шел пепел. Памятник Ксиномбре
за годы вырос.
Очнетесь вы — ваш грех из нашей муки
мы тянем к вам:
обугленные руки.
Столб пепла из Ксиномбры шел
по Ринду,
на пятый день достиг он моря,
а на седьмой пришел на мыс Атлантис.
Но и в открытом море
спасенья людям не было:
медузы умерли,
и осьминоги всплыли на поверхность.
И пепел лег на водяное зеркало,
как ряска смерти.
И демоны, и водяные ангелы
все умерли равно.
Теченьем мысли были боги втянуты
в гольфстримы смерти.
Молотом знаний
жахнул гений-мясник
в убойное место Ксиномбры.
В третий раз она умерла.
О, драгоценность.
65
Мы заслонились грезами
от ксиномбрических воспоминаний,
сном полным жизни,
славным забытьем.
Душою каждый
преобразился поразительно,
повадившись
парить по разным измерениям.
Исчезла точка боли тягостной.
Мы четко ощутили:
лопнула.
И расползлось
в душе блаженство,
и Аниары больше нет,
и нет Шефорка, и никто не спросит,
куда исчез и как.
Легко душе — и все вокруг легко.
И даже Изагель втянулась.
Либидель и все либидницы
и дормифиды порхают
в виденьях аниарцев,
от росы свежи,
в предутреннем лесу.
66
Несчастные все глубже погрязают
в эдеме, нам не делающем чести.
Но только чары зелья исчезают,
эдем неуловимо ускользает —
вопящие ксиномбры мчатся к нам,
как будто поклялись в бессрочной мести.
67
Крик разбудил меня. Кричит Тщебеба.
Ее зрачки тихонько угасают,
утратив блеск, подернувшись золой.
Кричит: Я не хочу здесь жить, бог мой!
Где наше утешенье, где покой?
О страх: как явственно не помню я Ксиномбру!
Сушь отовсюду шла.
Ее вершина—
сухие формулы,
давно готовый расчет фотонотурба,
и ветер, жаркий,
словно жар печи.
Тогда стояла осень.
Рассказывали те, кто уцелел:
в прохладные моря бросались люди,
ища спасенья.
***
Все кончено.
Виновных не осталось.
Зачинщики? Мертвы.
Потатчиков и след простыл.
Огнеупорные щиты
властей
глазурью стали,
или стали пеплом.
Все стало пеплом, что могло гореть.
Глазурь же на оплавленных камнях
была в четыре дюйма толщиной,
местами даже толще:
гранит вскипел
на глубину до фута или больше.
Но этого уже никто не видел:
клубами закружились люди,
летучим пеплом.
***
А что же было в доме?
Да, в общем, ничего.
Ведь нужно время, чтобы что-то было.
Стояли там на тумбочке часы,
отсчитывая время по секундам.
Расплавились, вскипели, испарились —
и сами не заметили когда:
миллисекунду можно ли заметить?
А та, что мигом раньше среди сна
прохладной ночи вдруг была пробуждена...
- Нет! — вы кричите. — Пощадите! Sombra! –
в чистилище раскаянья горя.
Вот так кричала от огня Ксиномбра.
68
Мы чувствуем: некое поле
наш курс изменяет упорно.
Неужто грядут перемены?
И старцы воспряли: бесспорно,
меняет свой курс Аниара.
И те, кто возжаждал нирваны,
устав изводиться безвинно,
кричат: «Аниара меняет,
меняет свой курс, молодчина!»
Никто не скрывает надежды,
никто ни над кем не глумится,
пристойно плывет на собранье
учений и вер вереница,
бумажки с молитвами тащат,
распятия, лотосы, флаги.
Меняет свой курс, молодчина!
Надежда, исполнясь отваги,
свой стяг подняла для почина.
69
То было нечто, схожее с туманом,
который становился все плотней,
пока на пятый день не засветился
у носовой обшивки. Чудеса!
Туман преобразился в покрывало,
оно всю Аниару обмотало,
играя самоцветно, как роса.
И плыли мы сквозь радужный опал.
Невиданный роскошный фейерверк
все царство Аниары ослеплял.
Но праздник прекратился очень скоро:
туман каким-то полем обладал,
и ураган сверкающих частиц
вселил в людей смертельный ужас,
промчавшийся по кораблю, как шквал.
Мы ждали смерти, гибели мы ждали.
И тысячи людей, что населяли
четыре тысячи кают, теперь
бежали в панике по коридорам.
А в зале для собраний сбили с.ног
и затоптали чуть не сотню гондов,
и тысячи увечья получили.
Сдвиг силы тяжести
рождает беспорядочные волны,
они пронизывают души,
вибрация похожа на удары
подводных скал о днище корабля.
Сердца трясет. Ничто за всю дорогу
на нас не нагоняло столько страху.
Какие крики в залах, в коридорах,
убийственная
давка там,
где люди-жернова,
крутясь от страха, рушат
самих себя в безумной круговерти.
Как великанский бур, сверлил голдондер
пылающую пыль. Обшивка носа,
дрожа от напряжения, съедала
скопленья ослепляющих частиц.
В огне и будто освещенный солнцем,
голдондер вкручивался, как юла,
все глубже в недра
материи, в громовые раскаты.
А после
кончилось все так же быстро,
как началось. Опять пошло паденье
по локсодрому,
как до столкновенья.
Возник вопрос: так что же это было?
Покойники нас меньше волновали.
Куда важнее знанье в мире страха,
в том ирреальном мире, где голдондер
привычно шел к изображенью Лиры.
И, стоя средь затоптанных и мертвых,
народу объяснило Руководство:
оно считает очень вероятным,
что это был космический песок
или замерзший тонкий порошок;
он движется всегда, как вечный снег,
он движется мильоны тысяч лет,
ища свою скалу,
чтоб отдохнуть,
чтоб с миром отдохнуть.
И люди получили объясненье,
и люди наклонились к мертвецам
чьи души, обретя упокоенье,
остыли, точно снег,
покоясь с миром
на скалах духа.
***
Но после этой встречи наша жизнь
заметно изменилась. Зал зеркал,
который много лет нам помогал
иллюзии беречь,
лежит в осколках,
покрывших, как сугробами, весь пол.
А все еще прекрасные йургини
зарезаны осколками, мертвы.
Погибла красота, когда с туманом
кружилась Аниара в вихре йурга.
Убита щеголиха наша — Хеба,
ни Йали нет, ни Дейзи больше нет,
среди осколков скорчилась Тщебеба.
Считая от момента старта, мы
скитаемся почти двенадцать лет.
70
В обычный день мы взяли свой маршрут,
опять легли в пространство Газильнут,
легли в ту часть Галактики опять,
чей звездный синтаксис умели разбирать.
Но не сочтите, будто Газильнут
преодолим за несколько минут,
что составляют человечий век.
Нет, Газильнут — считает человек —
есть часть пути в четыре галактава.
Длина же галактава — расстоянье
в пятнадцать лет, конечно световых.
На астронавских плэрах Млечный Путь —
лишь восемь сотен тысяч галактавов.
Нет, стоп. Тщета расчетов так страшна!
В бездонной бездне не исчислишь дна.
71
Как я ни роюсь в памяти, а все же
за Нобией могу я проследить
не дальше Тлалоктитли.
Так назывался город-невидимка,
больничный город в горной Дораиме,
запрятанный в глубинах гор.
Заброшенный рудник пустили в дело,
перечинили перекрытья,
все перестроили вчистую,
и вырос Тлалоктитли
в недрах гор,
на глубине в пятнадцать сотен футов.
Чистенько возвращаюсь я
мыслями в те горы.
Собравши по миру деньжат, самаритяне
их недра закупили, обновили.
И это обошлось,
как я слыхал, в три миллиона дьюм.
В монете гондской — полмильона гонди,
в звучащей риндской — пять мильонов ринди.
Проклянчивши десяток с лишним лет,
спасательную станцию укрыли
и спасительных глубинах Дораимы.
***
Меж бесов поживешь — и доброта
покажется диковинной страной,
где ценят плод за то, что он есть плод,
где счастье простоты поет кукушкой,
звенит в долине сердца.
72