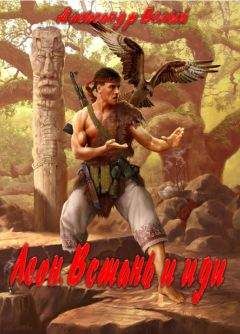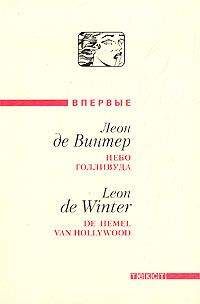Леон де Грейфф - Под знаком Льва
Ритурнель[26]
("И поныне твой голос льется...")
И поныне твой голос льется
над безвременьем зим и лет
и проводит меня, как лоцман,
сквозь берущий за горло бред.
И поныне твои лишь очи
(две звезды под каскадом ночи
черных локонов) светят мне…
И поныне твои лишь очи
(два сияющих средоточья
жизни в мертвенной белизне
наготы твоей) светят мне.
Я разлукой с тобой наполнен,
а душою и сердцем — пуст…
Но и ныне губами помню
мед твоих молчаливых уст.
Выпил память бы всю до дна я,
но она чересчур глубока.
Словно в море,
в тебя, родная,
впала жизни моей река.
Ритмы
("Песня...")
Песня.
Завораживающая песня
в мареве вечера.
Волшебная песня:
немудреная мелодия,
несмышленые слова.
Наивная песня,
грустная…
Бог мой, как сумеречно,
как одиноко!
Лютня Прованса,
грустные лепестки аккордов,
сорванные рукой испанки
в стрельчатом окне
башни.
(Геральдические стекла
глядят на кастильскую
степь, геральдические стекла,
стрельчатые окна
и тропинка,
по которой обычно приходит
влюбленный паж…
Сегодня она пустынна.)
Медленные арпеджио.
Девственные звуки.
Ласковый голос, робкий…
Невнятные слова песни,
словно заклинанья,
словно ворожба
перед лицом тайны,
таинства любви… Медленные,
медлительные аккорды.
Серые, сирые
звуки.
Невнятные, расплывающиеся звуки,
растворяющиеся
в сером тумане,
в сиром тумане, в сырой
дымке, в дымке тумана,
источающего печаль,
печаль обреченности.
Вещая песня. Вечерняя песня.
Голос,
в котором дрожит слеза,
словно свеча на ветру…
Незабываемый голос…
Эта песня
родилась по ту сторону снов,
волшебная песня,
наивная песня,
грустная…
Ритурнель
("На песок, на суглинок...")
На песок, на суглинок,
на веселую ветку
серебристой сосны —
вдоль дорог и тропинок
снегом сыплется сверху
песня полной луны.
Мягко падают сверху
вдоль дорог и тропинок
хлопья снежной луны —
на сосновую ветку,
на песок и суглинок,
в невесомые сны.
Реют вихри снежинок
вдоль дорог и тропинок —
это песня луны
опрокинулась сверху
на песок и на ветку
полуночной сосны…
Снежный лучик луны…
Лунный снег тишины…
Когда-то в Провансе
Когда-то, по слухам, в галантном Провансе
изящно слагали стихи трубадуры,
и нежными были их тровы и альбы,
как взгляд Магдалены, как руки Лауры.
Сирвенты, кансоны[27], принцессы и донны;
и рифмы, и ритмы изысканно хрупки,
любезные речи, учтивые вздохи,
и тонкие вина, и звонкие кубки.
Бургонские вина, и вина Шампани,
и бледное ренское — слава застолью,
где вкус безупречно звучащей рондели
приправлен чистейшей аттической солью.[28]
А ныне! Мещанское время нищанья
поэзии денежного стихоплета!
Мы служим вассалами нефти и салу,
нам лучшая нота — хрустенье банкнота.
В журнальных колонках тесним без стесненья
тисненье сонетов мы в честь мецената…
А раньше когда-то в галантном Провансе
поэты, по слухам, писали как надо:
о Хлоях, Лаурах, Роксанах, Кассандрах,
прелестных, возвышенных и возносимых,
не в меру божественных — но незабвенных,
излишне наивных — но неотразимых.
Откровения Лео Легриса
Честолюбив (признаюсь на ушко)
я, Лео Легрис, враль и недотрога.
Тщеславие мое столь велико,
что принимает форму монолога.
Мне тесно здесь, где так невысоко,
где скука душит хваткой осьминога.
Спаси же душу стилем рококо,
тщеславия асбестовая тога!
Аплодисменты королей и пешек
и пулеметы яростных насмешек
не вызовут меня на бис и бой.
Витаю в облаках я? Ну и ладно.
Я вам невнятен? Что ж! Зато изрядно
над вами посмеюсь — и над собой.
Книга знаков
1930
Фарс-рапсодия о пингвинах-перипатетиках[29]
Фрагменты
Пингвины
Однажды
вся пингвинья
рать
отправилась в далекий
путь:
куда-нибудь,
зачем-нибудь.
Ни дать ни взять
вся целиком
пингвинья рать.
Ать, два,
ать, два,
ать!
Возглавил всю
пингвинью рать
полупоэт, полуагрессор,
один румяный
герр профессор;
он чуть хромал
на правый ласт,
но был очкаст
и коренаст
и нес зеленый
зонт,
всем застя горизонт.
Шумел он: «Ать!»-
и снова: «Ать!»
И в ногу шла
пингвинья рать.
Пингвинье скопище пестрело
среди торосов,
среди льдин
одной из множества картин,
что описал Порфирьев сын
московитянин Бородин
смычком своей фантазии
в цикле «В Средней Азии».
Тут были всякие
пингвины:
глупцы, сократы,
шалопаи,
бароны
и простолюдины,
молчальники
и краснобаи,
филистеры, филантропяне,
филосифоны, филосовы,
пуристы были, пуритане
и остросло- и богословы,
пингво-орфеи, пингво-феи,
анахореты и эстеты,
атлеты, виги[30], и аскеты,
и все пласты
кретино-критики:
синтетики
и аналитики,
а большей частью —
паралитики.
Ну, словом,
вышла погулять
вся целиком
пингвинья рать.
Интерлюдия
Итак,
пингвиний караван
бредет в одну
из дальних стран.
В какую —
неизвестно,
да и неинтересно.
Зато уж
в караване
тьма
дарований:
черен, проворен,
в тоге историка,
Эдгаров Ворон
с черепом (Йорика).
Прорва пернатых
в перьях и латах:
Кречет и Кочет,
Сыч, Козодой…
Каждый лопочет,
как заводной.
Взять вот хотя бы
арию Жабы
или
(вот баба-то!)
ведьму из Макбета:
веник ли, швабра —
она впереди:
«Абракадабра!
Не подведи!..»
Ведьма из «Макбета»,
Ворон,
Баран,
Кочет и Кречет,
Сыч
и Сизарь…
Вот и явился
наш караван
в край, где певучи
сосны,
как встарь…
Скачет над лесом
всадник-луна.
Облако вроде
лошади ей.
Квакает в луже
Жаба одна.
А на поляне —
сонмы теней.
Сонмы пингвинов
дали обет
в том, что пребудут
немы, как мхи.
Вот и выходит
пингво-поэт,
чтобы прочесть им
пингво-стихи.
Афиша
Выступление,
что было обещано пингвинам,
дальновидно отменяется,
дабы после
не пришлось бы им, невинным,
животами долго
маяться.
Еще одно выступление
Другой пингвин
залез на пень —
поэт с гнильцою,
но слащавый,
поскольку
на одну ступень
он ближе был
знаком со славой.
Тряхнувши гривой,
произнес
он все слова
в своей балладе,
что сочинил он
про мороз,
а также
новолунья ради:
мол, вот
луна,
белым-бела,
плыла,
и всем казалось
снизу,
что спутница
земли была
как сахарная Мона Лиза…
Афиша
Состоявшееся
выступление
отменяется
как преступление
против личности
поэтичности.
Резюме
Почти что все
пингвины,
поэты то что
надо,
пропели сонатины
и пингво-серенады,
пролив слезу
и слюни
во славу
новолунья,
пропевши в лад
и кряду
сто гимнов
водопаду.
Интермедия
Задумались поэты…
Взахлеб читало эхо
сонеты их, но вряд ли
был хоть один пригож.
Задумались пингвины…
Тоска и скука! Эко!
Поэтов — сколько хочешь,
стихов же —
ни на грош!
Попоэтим!
Давайте-ка,
давайте-ка, пингвины,
пофилософим.
Давайте-ка покинем
наши льдины,
помефистофим.
Помудрствуем лукаво,
попоэтим.
Тем способом не выгорела
слава?
Обрящем этим!
Взгляни налево,
посмотри направо:
средь флейт, кларнетов,
куда ни кинешь взгляд,
орет орава
пингво-поэтов.
Поэтов разных:
чистюль и грязных,
и куртуазных,
и буржуазных,
и бесобразных
расстриг безрясных,
и вбитых в угол
пыхтящих пугал,
ну, словом, право,—
одна орава
убогих, строгих,
но недвуногих,
и выдающих,
и подающих,
и просто пьющих,
поющих в кущах…
Ворчат, воркуют,
урчат, ликуют,
ликерят, ромят
и смотрят косо
и безголосо
поют, истомят, бухтят, содомят...
И на обедне,
и на вечерне
хамят стихами
в господнем храме
(се между нами:
у нас про это
нет докумета),
нудят, москиты,
и те, что сыты,
и те, что босы,—
все безголосы.
Одиссея
А потом ватагой всею
ластоногие опять
пингвинью одиссею
решили продолжать.
Про то протоидея,
как в скважину — бадья,
внедрилась в них, довлея
потребе жития:
радеючи, рыдаючи,
хуля, хваля, пыля,
бредут они, по-заячьи
рисуя вензеля.
От полюса до пекла
идут в тартарары —
туда, где все вскипело
от адовой жары.
Грядут они: и Ворон,
и Сыч, и Козодой.
Тот в клюве тащит шкворень,
тот — со сковородой.
Пофилософим!
Нет уж, давайте лучше,
пингвины,
пофилософим.
Филосохлые философоны
Ныне мы филосуфы
стали настоящие:
ареопагичные[31]
пери-пате-тичные
(стало быть, гулящие
в роще с Аристотелем):-
мы сыплем силлогизмами,
цитатами и измами,
мы блещем латинизмами,
не спутав
падежи.
Мы сопорно-опийные,
транквилизаторийные,
снотворно-тошнотворные
ученые мужи.
Умеючи платонить,[32]
ликургить
и солонить,
и просто иезуитить,
зенонить и хрисиппить,
мы запросто устроим
схоластико-концерт,
а всяких там эразмов
да грацианов разных,
паскалей и декартов
оставим на десерт.
А что до августинов,
до неопла-плотинов[33]
и всяческих спиноз,
до прочих фом
аквинских,
до догм и форм
кальвинских,
то здесь тем паче сможем
мы заострить
вопрос.
А Блейк?
А Ницше вредный,
такой дурной и бледный?
Уж их-то
вместе с Кантом
мы вызубрили сплошь!
О, скука, скука,
скука!
Кричим мы сфинксу:
ну-ка!
Открой нам тайну,
злюка!
Неужто,
злая бука,
ты так-таки ни звука
и не произнесешь?
Антракт
Здесь
я па-апрашу антракта.
Вы скажете: лишен-де такта.
А я температурю. Так-то.
Причем хвораю не от лени:
видать, и впрямь кишка тонка,
поскольку от пингво-мигрени
вот-вот расколется башка.
Тишина.
Тишина в неограниченных количествах
Затишье.
Тихость.
Тишь одна.
Покой.
Безмолвье.
Тишина.
Пингвино-мудрые
умолкли.
Задумались. Ушли в себя
и, в глубине
себя скребя,
бьют в тамбурины
и в литавры.
Вулканит
веселящий газ
придурковатых мудроманов.
Стучит копытами Пегас,
осел иачит буриданов.
Они молчат,
набычив лбы.
Сопят.
Срамясь, не имут срама,
как фишки… Пешки похвальбы
для рубай Омар Хайяма.
Наконец-то конец
Уфф!
Засим и кончим
эту поэмуту —
фарсо-
фантастичную,
шуто-гротестичную
и антипатичную
смехостихосмуту.
Ибо и пингвинам
стало невтерпеж:
сообразив, сколь длинным
оказывается путь к поэтическим,
а также и философическим вершинам,
они ударились в бега,
но не по направлению к Пингвино-полису[34]
а прямо-таки к полюсу
(эту странную историю
зарегистрировала баварская обсерватория).
К полюсу вьюжному
(не установлено,
к Северному или Южному).
По полю
и по лесу
убежали к полюсу,
пустылому и остынному,
морозно-морзе-льдинному.
Исчезли среди льдин
ватагой всею,
всей гурьбой.
И вот я вновь
один.
Один
остался,—
сам собой.
Одинокий