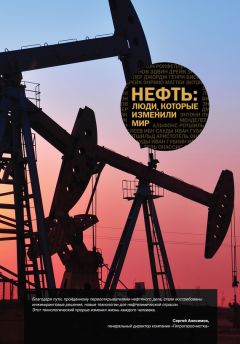Жиль Делёз - Кино
3
Нам уже приходилось в различных аспектах упоминать «модернистских» режиссеров. Но мы еще не говорили, почему их считают таковыми. Различие между так называемым классическим и так называемым модернистским кинематографом иное, нежели между немым и звуковым кино. Модернизм имеет в виду новое использование речевого, звукового и музыкального элементов. Дело выглядит так, как если бы в первом приближении речевой акт стремился преодолеть зависимость от визуального образа и обретал самостоятельный смысл, хотя такую автономию театральной не назовешь. Немое кино представляло речевые акты в стиле косвенной речи, так как оно обязывало читать их как титры; зато сущность звукового кино состояла в сближении речевого акта с прямой речью и с вовлечением его во взаимодействие с визуальным образом, при непрерывном сохранении принадлежности речевого акта этому образу, даже в voice off. Но вот, в современном кино неожиданно возникает весьма специфическая трактовка голоса, какую можно назвать несобственно-прямой речью, ибо в ней преодолевается оппозиция между прямой и косвенной речью. И это не смесь прямого и косвенного, а оригинальное и нередуцируемое измерение, существующее в разнообразных формах [628] . Мы встречались с ним несколько раз в предыдущих главах, иногда – на уровне кино, несправедливо называемого прямым, а порою – на уровне кино с композицией, несправедливо называемой косвенной. Если оставаться в рамках этого второго случая, то несобственно-прямую речь можно представить как переход от прямой речи к косвенной или в обратном направлении, хотя это и не смесь. Так, Ромер, истолковывая свою практику, часто говорил, что «Нравоучительные повести » есть не что иное, как экранизация текстов, сначала написанных косвенной речью, а затем переведенных в состояние диалога: voice off исчезает, и даже рассказчик вступает в косвенные отношения с неким Другим (например, с писательницей из «Колена Клер» ), но происходит это в таких условиях, когда прямая речь сохраняет признаки косвенного происхождения и не допускает фиксирования на первом лице. За пределами серии «Нравоучительных повестей» и серии «Моральных историй» , двум выдающимся фильмам, «Маркизе фон О… » и «Парсифалю» удается наделить кино способностью передачи несобственно-прямой речи в том виде, как она представала в произведениях Клейста, или же в средневековом романе, где персонажи могли говорить о себе в третьем лице («Она плачет», – поет Бланшефлер) [629] . Можно предположить, что Ромер пошел в обратном направлении по сравнению с Брессоном, который два раза воспользовался Достоевским, а один раз – средневековым романом. Ибо у Брессона не косвенная речь трактовалась как прямая, а наоборот, прямая речь, диалог, трактовались так, словно они произносятся Другим: отсюда знаменитый брессоновский голос, голос «модели», противопоставленный голосу театрального актера, – персонаж говорит так, как если бы он вслушивался в собственные речи, произносимые Другим, ради достижения буквализма голоса, ради отсечения его от всяческих непосредственных резонансов и ради произнесения несобственно-прямой речи [630] .
Если справедливо, что современное кино имеет в виду крушение сенсомоторной схемы, то речевой акт уже не вставляется в цепь действий и реакций и к тому же не обнаруживает какую бы то ни было основу взаимодействий. Он замыкается на себе и больше не представляет собой ни зависимости, ни какой-либо части визуального образа; он становится отдельным и целостным звуковым образом, обретает кинематографическую автономию, и кино становится действительно аудиовизуальным. Как раз благодаря этому осуществляется единство всех новых форм речевого акта, когда он попадает в режим несобственно-прямой речи, – посредством этого акта звуковое кино наконец-то становится автономным. Следовательно, речь идет уже не о действии и реакции, равно как и не о взаимодействии и даже не о рефлексии. Речевой акт изменил свой статус. Если мы обратимся к «прямому» кино, то в полной мере обнаружим этот статус, наделяющий речь несобственно-прямым статусом: это выдумывание. Речевой акт у Руша или Перро становится игрой воображения , тем, что Перро называл «ловлей сочинителя легенды на месте преступления», и тем, что обретает политический смысл формирования народа (лишь таким путем можно определить кино, называемое прямым или переживаемым). Что же касается композиционного кино типа брессоновского или ромеровского, то аналогичный результат достигается на других уровнях и иными средствами. Согласно Ромеру, именно анализ нравов общества в состоянии кризиса позволяет выделить речь как «реализующее фантазирование», творящее события [631] . Что же касается Брессона, то у него, наоборот, речь должна проникнуть внутрь события, чтобы извлечь из него духовную часть, вечными современниками которой являемся мы: это и образует память, легенду, или же то, что Пеги называл «internel». Несобственно-прямой речевой акт становится политическим актом фантазирования, моральным актом рассказа, надысторическим актом легенды [632] . Ромеру, как и Роб-Грийе, случается отправляться попросту от акта лжи, на что кинематограф, в противоположность театру, способен, – однако же, ясно, что в произведениях обоих авторов ложь диковинным образом преодолевает свой обыкновенный концепт.
Разрыв сенсомоторных связей поражает не только речевой акт, который замыкается на себе и опустошается, при том, что голос теперь отсылает лишь к самому себе и другим голосам. Этот разрыв затрагивает и визуальный образ, с этих пор обнаруживающий лишь какие-угодно-пространства, пространства пустые или отъединенные, характеризующие современный кинематограф. Это слегка похоже на то, как если бы речь отстранялась от образа, чтобы стать основополагающим актом, а образ, со своей стороны, воздвигал основы или «устои» пространства, эти безмолвные потенции, существующие до или после речи, до или после людей. Визуальный образ становится археологическим, стратиграфическим, тектоническим. Не то чтобы нас отсылали в какой-то доисторический период (существует и археология настоящего); отсылают нас в пустынные слои нашего времени, где зарыты наши собственные фантомы, – в лакунарные слои, залегающие одни под другими согласно переменным ориентациям и связям. Таковы пустыни в городах Германии. Сюда же относятся пустыни у Пазолини, превращающие доисторические периоды в абстрактный поэтический элемент, в «сущность», существующую одновременно с нашей историей, в цоколь Архейской эры, обнаруживающий нескончаемую историю под нашей историей. Сюда же относятся пустыни Антониони, в предельных случаях хранящие лишь абстрактные дороги и скрывающие многочисленные фрагменты жизни доисторических супружеских пар. Это и фрагментации Брессона, согласующие или заново нанизывающие в цепь куски пространства, каждый из которых, в свою очередь, образует замкнутый контур. У Ромера это женское тело, претерпевающее фрагментации, несомненно, и как фетиш, но также и как осколки некоего сосуда или извлеченной из моря посуды радужных цветов: в «Нравоучительных повестях» представлена археологическая коллекция нашего времени. А море и в особенности пространство из «Парсифаля» поражены искривленностью, накладывающейся на едва ли не абстрактные пути. Перро в фильме «Вас ожидает королевство» показывает медлительные тягачи, на рассвете убирающие сборные домики, оставляя ландшафт пустым: сюда привели людей, а сегодня их уводят отсюда. «Страна без деревьев» – шедевр, в котором налагаются друг на друга географические, картографические и археологические образы, связанные со ставшей абстрактной трассой миграции почти исчезнувшего оленя-карибу. Рене погружает образ в мировые эпохи и использует переменные порядки расположения слоев; эти слои пронзают самих персонажей и соединяют, например, возвратившихся с того света женщину-ботаника и мужчину-археолога в фильме «Любовь до смерти». Но именно в стратиграфически пустых и лакунарных пейзажах Штрауба движения камеры (когда таковые есть, в особенности – панорамные) вычерчивают абстрактную кривую происшедшего, и земля в них сливается с тем, что в ней зарыто: грот из «Отона», где участники Сопротивления прятали оружие; мраморные каменоломни и поля Италии, где происходили массовые убийства гражданского населения в фильме «Собаки Фортини» ; в фильме «Из мрака к сопротивлению» – поле зерновых, орошенное священной кровью жертв (или план с травой и акациями); французские и египетские деревни в фильме «Слишком рано, слишком поздно…» [633] . На вопрос «что такое штраубовский план?» можно ответить, как в учебнике стратиграфии, что это срез, включающий точечные линии исчезнувших археологических культур и сплошные линии тех культур, с которыми мы пока соприкасаемся. Согласно Штраубу, визуальный образ есть скальная порода.