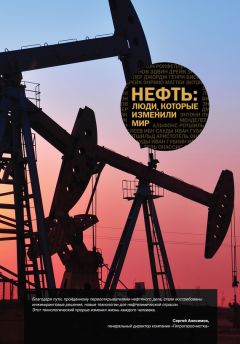Жиль Делёз - Кино
Если в континууме (или у звукового компонента) нет отделимых элементов, он все же каждый миг дифференцируется в соответствии с двумя расходящимися направлениями, выражающими его отношения с визуальным образом. Это двойственное отношение проходит через закадровое пространство, так как последнее полностью принадлежит визуальному кинематографическому образу. Разумеется, закадровое пространство было изобретено не звуковым кино, но именно звуковое кино «заселило» его, а также заполнило визуальное невидимое особым присутствием. С самого начала проблема звукового кино заключалась в следующем: как сделать так, чтобы звук и речь не стали попросту избыточным повторением видимого? Эта проблема не отрицала того, что звуковое и «говорящее» кино формируют один из компонентов визуального образа, отнюдь нет; как раз на правах особой составной части образа звук не должен был стать избыточным по отношению к тому, что видно в визуальном элементе. В знаменитом советском манифесте уже предлагалось, чтобы звук отсылал к некоему закадровому источнику, формируя тем самым как бы визуальный контрапункт, а не двойника видимой точки: шум сапог становится тем интереснее, что их не видно [617] . Можно вспомнить большие успехи, достигнутые в этой области Рене Клером, например, в фильме «Под крышами Парижа» , где молодой человек и девушка ведут разговор в полной темноте, когда свет полностью погашен. Этот принцип неизбыточности и отсутствия совпадения очень твердо поддерживает Брессон: «Когда звук может вытеснить образ, подавить или нейтрализовать его» [618] . Вот и третье отличие от театра. Словом, звуковой элемент во всех его формах порою заселяет закадровое пространство визуального образа, и тем самым ему удается лучше свершиться в этом смысле как компоненту этого образа: на уровне голоса мы называем это voice off, голосом, источник которого не виден.
В предыдущем исследовании мы рассмотрели два аспекта закадрового пространства: реплики в сторону и «иные места», относительный и абсолютный аспект. Порою закадровое пространство отсылает к некоему визуальному пространству, которое «по праву» и естественным способом продлевает пространство, видимое в образе: в таких случаях закадровый звук предвосхищает то, откуда он берется, нечто, что будет вскоре увидено или может стать увиденным в следующем образе. К примеру, шум грузовика, которого пока не видно, или же беседа, когда мы видим лишь одного из ее участников. Это первое отношение данного множества к множеству более обширному, которое его продлевает или охватывает, но имеет ту же самую природу. Порою же, напротив, закадровое пространство свидетельствует о потенции совсем иной природы: на сей раз оно отсылает к Целому, выражаемому во множествах; в изменении, которое выражается в движении; в длительности, которая выражается в пространстве; в каком-либо живом концепте, который выражается в образе; в духе, который выражается в материи. В этом втором случае sound off или voice off присутствуют скорее в музыке и в весьма специфических речевых актах, рефлексивных, а уже не интерактивных (голос, воскрешающий прошлое, комментирующий, знающий, наделенный всемогуществом или большой властью над последовательностью образов). Два типа отношений закадрового пространства – актуализуемое отношение с прочими множествами и виртуальное отношение с целым – обратно пропорциональны друг другу; но оба строго неотделимы от визуального образа и возникают уже в немом кино (например, в «Страстях Жанны д’Арк» Дрейера). Когда кино становится звуковым, когда звук заселяет закадровое пространство, то это происходит согласно двум упомянутым аспектам, в соответствии с их взаимодополнительностью и обратной пропорциональностью, даже если целью этого является достижение новых эффектов. И вот, Паскаль Бонитцер, а затем – Мишель Шьон поставили под сомнение единство закадрового голоса, показав, как последний с необходимостью разделяется сообразно двум типам отношений [619] . В действительности, дело складывается так, как если бы звуковой континуум непрестанно дифференцировался в двух направлениях, из которых одно охватывает шумы и интерактивные речевые акты, а другое – рефлексивные речевые акты и музыку. Годар как-то сказал, что две звуковые дорожки необходимы потому, что у нас две руки, и оттого, что кино – тактильное искусство рук. И справедливо, что звук вступает в привилегированные отношения с осязанием: скажем, удары по вещам и телам в начале фильма «Имя: Кармен» . Но даже для безрукого звуковой континуум будет по-прежнему дифференцироваться в соответствии с двумя типами отношений визуального образа, актуализуемым (осуществляемым или неосуществляемым) отношением с другими возможными образами, а также виртуальным и неосуществимым отношением с Целым.
Дифференциация аспектов в рамках звукового континуума является не их отделением, а коммуникацией, циркуляцией, непрестанно этот континуум восстанавливающей. Возьмем фильм «Завещание доктора Мабузе» , воспользовавшись превосходным анализом Мишеля Шьона: кажется, будто страшный голос все время бросает реплики в сторону сообразно первому аспекту закадрового пространства, – однако стоит нам проникнуть «в сторону, куда обращены его реплики», как он уже в другом месте, ибо он всемогущ, а это уже соответствует второму аспекту, – и так до тех пор, пока он не локализуется и не идентифицируется в видимом образе (voice in). Тем не менее ни один из этих аспектов не отменяет и не умаляет других, и каждый сохраняется в прочих: последнего слова нет. Это верно и относительно музыки: в «Затмении» Антониони музыка сначала окружает влюбленных в парке, а потом выясняется, что играет пианист, – его не видно, но он рядом; закадровый звук тем самым изменяет свой статус, переходя из одного закадрового пространства в другое, а затем возвращаясь в обратном направлении, когда он продолжает слышаться вдали от парка и следует за влюбленными по улице [620] . Но поскольку закадровое пространство является одним из компонентов визуального образа, замкнутый круг в равной степени проходит и через sounds in, присутствующие в видимом образе (таковы все случаи, где источник музыки виден, как, например, в столь дорогих для французской школы балах). Целая сеть звуковых коммуникаций и преобразований несет в себе шумы, звуки, рефлексивные и интерактивные речевые акты, а также музыку, проницающую визуальный образ извне и снаружи, что делает его тем более «читабельным». Примером такой кинематографической сети могло бы послужить творчество Манкевича, в особенности – фильм «Повод для сплетен» , где все речевые акты сообщаются между собой, но при этом несущие элементы самого образа, с одной стороны – визуальный образ, с которым эти речевые акты соотносятся, а с другой – согласующая и преодолевающая их музыка. Следовательно, мы подходим к проблеме, которая касается уже не только коммуникации звуковых элементов, зависящих от визуального образа, но и коммуникации, присущей последнему во всех его частях, с чем-то его превосходящим, когда нет возможности без этого обойтись, – а такой возможности нет никогда. Круг представляет собой не только круг звуковых элементов, в том числе и музыкальных, в их отношениях к визуальному образу, но еще и отношения самого визуального образа к музыкальному элементу par excellence, а ведь последний проскальзывает повсюду, и в sound in, и в sound off, и в шумы, и в звуки, и в речь.
Движение в пространстве выражает некое изменяющееся целое; это похоже на вариации миграции птиц, зависящие от времен года. Повсюду, где устанавливается движение между вещами и людьми, происходит некая вариация или изменение во времени, т. е. в открытом целом, которое включает их в себя и в которое они погружаются. Ранее мы видели, что образ-движение всегда выражает некое целое, и в этом смысле он формирует косвенную репрезентацию времени. И как раз поэтому образ-движение обладает двумя закадровыми пространствами: одно из них относительное, то, в соответствии с которым движение, касающееся множества, составляющего образ, продолжается или может продолжаться в рамках более обширного множества того же характера; другое же абсолютное, то, в соответствии с которым движение – независимо от множества, в каковом мы его рассматриваем, – отсылает к некоему выражающему его изменяющемуся целому. Согласно первому измерению, визуальный образ нанизывается в цепь вместе с другими образами. Согласно второму измерению, выстраивающиеся в цепь образы интериоризуются в соответствующем целом, а это целое экстериоризуется в образах, причем само оно изменяется в то время, как образы движутся и нанизываются в цепь. Разумеется, образу-движению присущи не только экстенсивные движения (пространство), но и движения интенсивные (свет), а также аффективные (душа). Тем не менее время как открытая и изменяющаяся целостность превосходит все движения, даже личностные изменения души или ее аффективные порывы, хотя и не в состоянии без них обойтись. Стало быть, оно улавливается в косвенной репрезентации, – ведь оно не может обойтись без выражающие его образов-движений, но, тем не менее, превосходит все относительные движения, заставляя нас помыслить некий абсолют движения тел, некую бесконечность движения света, какую-то бездну движения душ: таково возвышенное. От образа-движения к живому концепту, и наоборот… И оказывается, что все это можно было отнести уже к немому кино. Если же теперь нас спросят, в чем состоял вклад киномузыки, то мы увидим, как вырисовываются элементы ответа. Несомненно, немое кино подразумевало какую-то музыку, импровизированную или запрограммированную. Но эта музыка оказывалась подчинена определенной необходимости соответствовать визуальному образу или служить описательным, иллюстративным и повествовательным целям, т. е. действовала как своего рода титры. Когда же кино становится звуковым и говорящим, музыка как бы освобождается и становится способной к самостоятельному взлету [621] . Но в чем же состоят этот взлет и это освобождение? Эйзенштейн дал первый ответ в своих анализах музыки Прокофьева к «Александру Невскому» : потребовалось, чтобы образ и музыка сами по себе образовали целое, выделив из себя элемент, сочетающий визуальное и звуковое: это движение или даже вибрация. Необходим был определенный способ прочтения визуального образа, соответствующий прослушиванию музыки. Но этот тезис не скрывает намерения уподобить микширование или «аудиовизуальный монтаж» монтажу немого кино, всего лишь частным случаем которого оно бы являлось; этот тезис полностью сохраняет идею соответствия и заменяет внешнее или иллюстративное соответствие внутренним; согласно этому тезису, целое должно быть сформировано из визуального и звукового элементов, преодолевающих друг друга в высшем единстве [622] . Но, раз визуальные образы немого кино уже выражали некое целое, то как добиться того, чтобы целое звукового и визуального элементов не стало одним и тем же, или, если оно все-таки одно и то же, – чтобы оно не дало повод для образования двух избыточных выражений? По мнению Эйзенштейна, речь идет о формировании некоего целого, состоящего из двух выражений, общий знаменатель (опять же – соизмеримость) между которыми предстоит найти. А вот достижение звукового кино заключалось скорее в выражении целого двумя несоизмеримыми и не соответствующими друг другу способами.