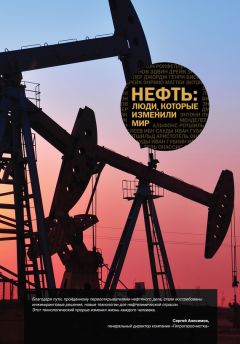Жиль Делёз - Кино
Движение в пространстве выражает некое изменяющееся целое; это похоже на вариации миграции птиц, зависящие от времен года. Повсюду, где устанавливается движение между вещами и людьми, происходит некая вариация или изменение во времени, т. е. в открытом целом, которое включает их в себя и в которое они погружаются. Ранее мы видели, что образ-движение всегда выражает некое целое, и в этом смысле он формирует косвенную репрезентацию времени. И как раз поэтому образ-движение обладает двумя закадровыми пространствами: одно из них относительное, то, в соответствии с которым движение, касающееся множества, составляющего образ, продолжается или может продолжаться в рамках более обширного множества того же характера; другое же абсолютное, то, в соответствии с которым движение – независимо от множества, в каковом мы его рассматриваем, – отсылает к некоему выражающему его изменяющемуся целому. Согласно первому измерению, визуальный образ нанизывается в цепь вместе с другими образами. Согласно второму измерению, выстраивающиеся в цепь образы интериоризуются в соответствующем целом, а это целое экстериоризуется в образах, причем само оно изменяется в то время, как образы движутся и нанизываются в цепь. Разумеется, образу-движению присущи не только экстенсивные движения (пространство), но и движения интенсивные (свет), а также аффективные (душа). Тем не менее время как открытая и изменяющаяся целостность превосходит все движения, даже личностные изменения души или ее аффективные порывы, хотя и не в состоянии без них обойтись. Стало быть, оно улавливается в косвенной репрезентации, – ведь оно не может обойтись без выражающие его образов-движений, но, тем не менее, превосходит все относительные движения, заставляя нас помыслить некий абсолют движения тел, некую бесконечность движения света, какую-то бездну движения душ: таково возвышенное. От образа-движения к живому концепту, и наоборот… И оказывается, что все это можно было отнести уже к немому кино. Если же теперь нас спросят, в чем состоял вклад киномузыки, то мы увидим, как вырисовываются элементы ответа. Несомненно, немое кино подразумевало какую-то музыку, импровизированную или запрограммированную. Но эта музыка оказывалась подчинена определенной необходимости соответствовать визуальному образу или служить описательным, иллюстративным и повествовательным целям, т. е. действовала как своего рода титры. Когда же кино становится звуковым и говорящим, музыка как бы освобождается и становится способной к самостоятельному взлету [621] . Но в чем же состоят этот взлет и это освобождение? Эйзенштейн дал первый ответ в своих анализах музыки Прокофьева к «Александру Невскому» : потребовалось, чтобы образ и музыка сами по себе образовали целое, выделив из себя элемент, сочетающий визуальное и звуковое: это движение или даже вибрация. Необходим был определенный способ прочтения визуального образа, соответствующий прослушиванию музыки. Но этот тезис не скрывает намерения уподобить микширование или «аудиовизуальный монтаж» монтажу немого кино, всего лишь частным случаем которого оно бы являлось; этот тезис полностью сохраняет идею соответствия и заменяет внешнее или иллюстративное соответствие внутренним; согласно этому тезису, целое должно быть сформировано из визуального и звукового элементов, преодолевающих друг друга в высшем единстве [622] . Но, раз визуальные образы немого кино уже выражали некое целое, то как добиться того, чтобы целое звукового и визуального элементов не стало одним и тем же, или, если оно все-таки одно и то же, – чтобы оно не дало повод для образования двух избыточных выражений? По мнению Эйзенштейна, речь идет о формировании некоего целого, состоящего из двух выражений, общий знаменатель (опять же – соизмеримость) между которыми предстоит найти. А вот достижение звукового кино заключалось скорее в выражении целого двумя несоизмеримыми и не соответствующими друг другу способами.
И действительно, проблема киномузыки в этом направлении имеет не столько гегельянское решение в духе Эйзенштейна, сколько решение ницшеанское. Согласно Ницше или по крайней мере, Ницше-шопенгауэрианца периода «Рождения трагедии», визуальный образ исходит от Аполлона, приводящего его в движение согласно некоей мере и способствующего тому, чтобы этот образ косвенно и опосредованно, посредством лирической поэзии или драмы, выражал целое. Но целое способно и к прямой репрезентации «непосредственно данного образа», несоизмеримого с первым, и на этот раз образа музыкального и дионисийского, более близкого к безосновательной Воле, нежели к движению [623] . В трагедии непосредственно данный музыкальный образ представляет собой нечто вроде огненного ядра, окруженного визуальными аполлоническими образами, и не может обойтись без их шествия. О кино, представляющем собой прежде всего, визуальное искусство, можно скорее сказать, что музыка добавляет непосредственный образ к образам опосредованным, косвенно репрезентирующим целое. Но ничего существенного не изменится, если мы захотим узнать изначальное различие между косвенной и прямой репрезентацией. Согласно таким композиторам, как Пьер Жансен или в меньшей степени – Филипп Артхейс, киномузыка должна быть абстрактной и самостоятельной, подлинным «инородным телом» в визуальном образе, слегка напоминать пыль в глазу, а также сопровождать «нечто присутствующее в фильме без того, чтобы то было в нем показано или даже индуцировано» [624] . Хотя некое отношение и существует, все же ни внешнее, ни даже внутреннее соответствие не приведет нас к подражанию, т. е. к реакции инородного музыкального тела на совершенно непохожие на него визуальные образы, или же скорее к самостоятельному взаимодействию общей структуры в целом. Внутреннее взаимодействие играет здесь столь же ничтожную роль, как и внешнее, и движение вод при игре света – столь же коррелят для баркаролы, сколь и объятия парочки венецианцев. Это доказал Ганс Эйслер в своей критике Эйзенштейна: не существует движения, общего для визуального и звукового элементов, и музыка действует не подобно движению, но как «стимулятор движения, все же его не дублируя» (т. е. подобно воле) [625] . И дело в том, что образы-движения, визуальные образы в движении выражают некое изменяющееся целое, но выражают они его косвенно, так что нельзя утверждать, что изменение как свойство целого регулярно совпадает с каким-либо относительным движением людей или вещей, а также с аффективным движением, интериорным некоему персонажу или какой-либо группе: в музыке оно выражается непосредственно, но по контрасту или даже в конфликте, в несогласованности с движением визуальных образов. Поучительный пример этому привел Пудовкин: провал пролетарской манифестации не должен сопровождаться ни грустной, ни даже неистовой музыкой, – он лишь составляет драму во взаимодействии с музыкой, с изменением целого, как с растущей волей пролетариата. Эйслер приводит массу примеров такой «патетической дистанции» между музыкой и образом: быстрая и решительная музыка для пассивного или угнетающего образа, нежность или спокойствие баркаролы как genius loci по отношению к бурности происходящих событий, гимн солидарности при показе образов угнетения… Словом, к косвенной репрезентации времени как изменяющегося целого звуковое кино добавляет непосредственную, но музыкальную и только музыкальную, ничему не соответствующую репрезентацию . Это и есть живой концепт, преодолевающий визуальный образ, будучи не в силах без него обойтись.
Можно заметить, что непосредственная репрезентация – как писал Ницше – не сливается с тем, что она репрезентирует, с изменяющимся целым или с временем. К тому же для нее может быть характерно весьма дискретное, или даже разреженное, присутствие. Более того, прочие звуковые элементы могут исполнять функцию, аналогичную музыкальной: таков voice off в его абсолютном измерении, как всемогущий и всеведущий глас (модуляции голоса Уэллса в фильме «Великолепные Эмберсоны» ). Или даже voice in: если голос Греты Гарбо производил столь сильное впечатление в звуковом кино, то это потому, что в каждом из фильмов с ее участием он оказывался способным в определенный момент не только выразить внутреннее изменение личности героини как аффективное движение души, но еще и объ единял в некоем целом прошлое, настоящее и будущее – и вульгарные интонации, и любовное воркование, и холодные сиюминутные решения, и воскрешение прошлого в памяти, и порывы воображения (начиная с ее первого звукового фильма «Анна Кристи» ) [626] . Примерно такого же эффекта достигает Дельфина Сейриг в фильме Рене «Мюриэль» , когда она вбирает в свой голос изменяющееся целое в промежутке от войны до войны и от одной Булони до другой. Как правило, музыка сама становится sound in, как только мы видим ее источник в визуальном образе, но мощи своей она от этого не утрачивает. Такие перемены можно было бы лучше растолковать, если бы нам удалось рассеять явное противоречие между двумя последовательно упомянутыми нами концепциями: «звукового континуума» Фано и «инородного тела» Жансена. То г о, что их общей чертой является противостояние принципу соответствия, недостаточно. На самом деле все звуковые элементы, в том числе и музыка, и безмолвие, формируют некий континуум как принадлежность визуального образа. Это, однако, не мешает данному континууму непрестанно дифференцироваться согласно двум аспектам закадрового пространства, один из которых относительный, а другой – абсолютный. И все это в той мере, в какой музыка репрезентирует или населяет абсолют, с коим она взаимодействует как инородное тело. Но абсолют – или изменяющееся целое – не сливается со своей непосредственной репрезентацией: вот почему он непрестанно восстанавливает звуковой континуум, как sound off или sound in, а также соотносит его с косвенно его выражающими визуальными образами. И выходит так, что этот второй момент не отменяет первого и сохраняет за музыкой ее самостоятельную специфическую силу [627] . В этой точке кино остается, в основе своей, визуальным искусством, по отношению к которому звуковой континуум дифференцируется в двух направлениях, по двум гетерогенным потокам, но также и реформируется, и восстанавливает свою форму. Таково мощное движение; следуя ему, образы уже в немом кино интериоризуются в изменяющемся целом, но в то же время изменяющееся целое экстериоризуется в визуальных образах. Обретая звук, речь и музыку, круг образа-движения формирует иную фигуру, в иных измерениях и с другими составными частями; тем не менее в нем сохраняется связь между образом и целым, постепенно становящимся более богатым и сложным. В этом-то смысле звуковое кино довершает достижения немого. Как мы уже видели, и немое, и звуковое кино формируют нескончаемый «внутренний монолог», который непрестанно интериоризуется и экстериоризуется: это не язык, а визуальная материя, выразимая на языке (его «потенциальное означаемое», как называл это явление лингвист Гюстав Гийом) и отсылающая в одних случаях к косвенным выражениям (титры), в других – к прямым (речевые и музыкальные акты).