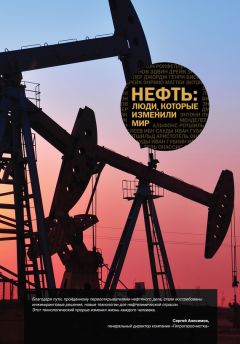Жиль Делёз - Кино
В простейшем случае такое новое распределение визуального и речевого случается в рамках одного и того же образа, который, следовательно, становится аудиовизуальным. Тут необходима настоящая педагогика, поскольку мы должны по-новому прочитывать визуальное, равно как и слушать речевые акты. Вот почему Серж Даней ссылается на «годарианскую» или «штраубианскую» педагогику. И первым проявлением большой педагогики в простом и все-таки определяющем случае стали последние фильмы Росселлини. Дело обстоит так, как если бы Росселлини сумел заново создать что-то вроде абсолютно необходимой начальной школы с ее уроком слов и уроком вещей, с грамматикой речи и правилами обращения с предметами. Эта педагогика, не сливающаяся ни с документальным фильмом, ни с расследованием, особенно отчетливо предстает в фильме «Восшествие Людовика XIV на престол» : Людовик XIV дает портному урок отношения к вещам, заставляя его подбирать ленты и узелки, чтобы тот создал прототип парадного костюма, который будет давать занятия дворянским рукам, – в другом же месте король дает урок новой грамматики, где он сам становится единственным субъектом высказывания, тогда как вещи сочетаются согласно его намерениям. Педагогика или, скорее, «дидактика» Росселлини состоит не в соотнесении речей между собой и не в демонстрации вещей, но в выделении простейшей структуры дискурса, – речевого акта, – а также в обучении будничному изготовлению вещей, большим или малым трудам, ремеслу или индустрии. В фильме «Мессия» сопрягаются притчи, представляющие собой речевые акты Христа, и изготовление ремесленных предметов; «Августин Гиппонский» сопрягает акт веры с новой скульптурой (то же самое происходит с предметами в «Паскале», с рынком из «Сократа» и т. д.). Так сочетаются две траектории. Интересы Росселлини состоят в разъяснении понятия «борьбы» как возникновения нового, и борьба эта не творится между двумя траекториями, а может проявиться лишь «сквозь» них и благодаря их маятникообразным движениям. Под дискурсами необходимо найти новый стиль речевого акта, всякий раз выявляющийся в языковой борьбе с прошлым, – а под вещами – новое пространство, формирующееся в тектонической противопоставленности пространству прежнему. Пространством Людовика XIV является Версаль, благоустроенная территория, противостоящая скученному пространству Мазарини, – но также и индустриальное пространство, где вскоре началось серийное производство вещей. Будь то у Сократа, Христа, Августина, Людовика XIV, Паскаля или Декарта – речевой акт отрывается от прежнего стиля в то время, как пространство формирует новый слой, стремящийся закрыть предыдущий; повсюду борьба характеризует маршрут мира, покидающего один исторический момент ради того, чтобы войти в другой – трудные роды нового мира с двойными щипцами слов и вещей, речевых актов и стратифицированного пространства. Такова историческая концепция, сочетающая одновременно и комическое и драматическое, и необычайное и повседневное – новые типы речевых актов и новые виды структурирования пространства. «Археологическая» концепция почти что в духе Мишеля Фуко. .. Как раз этот метод унаследовал Годар, превративший его в основу собственной педагогики и присущего ему дидактизма: таковы уроки отношения к вещам и словам в фильме «Шестью два», вплоть до знаменитой последовательности из фильма «Спасайся, кто может», где урок отношения к вещам состоит в позах, навязываемых клиентом проститутке, а урок слов – в фонемах, которые он заставляет ее произносить, – и эти уроки отчетливо друг от друга отделены.
На этой-то педагогической основе и строится новый режим образа. Как мы уже видели, этот новый режим состоит в следующем: образы и последовательности не нанизываются посредством рациональных купюр, завершающих первый (первую) или начинающих второй (вторую), а заново выстраиваются через иррациональные купюры, уже не принадлежащие ни к одному из двух образов и ни к одной из двух последовательностей и обладающие смыслом сами по себе (зазоры). Иррациональные купюры, следовательно, имеют дизъюнктивный, а уже не конъюнктивный смысл [641] . В сложном случае, который мы теперь рассматриваем, проблема в следующем: где проходят купюры, в чем они состоят, почему они обладают автономией? Мы сталкиваемся с первой последовательностью визуальных образов, имеющих звуковой и речевой компонент, как на первой стадии звукового кино, – однако они стремятся к пределу, который им уже не принадлежит, как не принадлежит он и второй последовательности. Этот предел, эта иррациональная купюра, может представать в весьма разнообразных визуальных формах – либо в неподвижной форме последовательности необычных, «аномальных» образов, порою прерывающих нормальное выстраивание двух последовательностей; либо в расширенной форме черного или белого экрана и их производных. Но всякий раз иррациональная купюра имеет в виду новую стадию говорящего кино, новый облик звукового кино. Это может быть актом молчания в том смысле, что молчание возникло с появлением речевых и музыкальных элементов. Это может быть и речевым актом, но взятом в аспекте игры воображения или заложения основ, а не в его классических аспектах. Примеры тому многочисленны в фильмах новой волны, например в фильме Трюффо «Стреляйте в пианиста», где речевой акт прерывает погоню на автомобиле, – акт тем более странный, что он сохраняет видимость обыкновенной беседы, взятой наудачу; этот метод особенно выразителен у Годара, поскольку иррациональная купюра, к которой стремится нормальная последовательность, является жанром или персонифицированной категорией, требующими как раз речевого акта как заложения основ (роль Бриса Парена в «Жить своей жизнью») или как игры воображения (роль Девоса в «Безумном Пьеро»). Это может быть и музыкальным актом, когда музыка органична по отношению к черному заснеженному экрану, разрезающему последовательности образов, и заполняет этот интервал ради того, чтобы распределять образы по двум непрерывно перемешиваемым сериям: такова организация фильма Рене «Любовь до смерти», где музыка Хенце слышится только в интервалах, ибо она принимает на себя подвижную дизъюнктивную функцию в промежутке между двумя сериями – от смерти к жизни и от жизни к смерти. Случай может быть и еще более сложным, когда серия образов тяготеет не только к некоему музыкальному пределу как купюре или категории (как происходит в фильме Годара «Спасайся, кто может», где непрерывным эхом звучит вопрос: «что такое эта музыка?»), но и когда эта купюра, этот предел сами формируют серию, накладывающуюся на первую (такова вертикальная конструкция фильма «Имя: Кармен», где образы квартета выстраиваются в серию, накладываемую на серии, купюры между которыми они обеспечивают). Годар, разумеется, является одним из режиссеров, внимательнее других рассмотревшим отношения между визуальным и звуковым элементами. Но его тенденция реинвестировать звуковое внутрь визуального, а в последнем пределе (по выражению Данея) – «вернуть» оба элемента в тело, из которого они были взяты, влечет за собой целую систему «сбоев» в синхронизации или микрокупюр во всех смыслах слова: купюры размножаются и теперь проходят уже не между звуковым и визуальным элементами, но и в пределах визуального, и в многочисленных стыках элементов [642] . А что происходит в том случае, когда иррациональная купюра, зазор или интервал проходят между очищенными, освобожденными друг от друга, дизъюнктивными визуальным и звуковым элементами?
Возвращаясь к наглядной педагогике, можно утверждать, что фильм Эсташа «Фотографии Аликс» сводит визуальный элемент к фотографиям, а голос – к комментарию, – но между комментарием и фотографиями постепенно «выдалбливается» зазор; впрочем, сам свидетель не удивляется этой растущей гетерогенности. Начиная с фильма «Прошлым летом в Мариенбаде» и на протяжении всего своего творчества Роб-Грийе обыгрывал новую асинхронию, когда речевой и визуальный элементы не слипаются, но опровергают друг друга и друг другу противоречат, причем мы не можем отдать «приоритет» ни тому, ни другому: в промежутке есть что-то неразрешимое (как замечает Гардьес, у визуального нет исключительного права на подлинность, и оно содержит не меньше неправдоподобного, нежели речь). И противоречия уже не позволяют нам просто сличать услышанное и увиденное – элемент за элементом, или одно за другим, с педагогической целью: роль их – задействовать целую систему сбоев синхронизации и переплетений, поочередно, посредством предвосхищения или возвращений назад, детерминирующих разные настоящие времена, сочетая их в непосредственном образе-времени, – или же организующих прогрессивную или обратимую серию потенций под знаком ложного [643] . Визуальный и речевой элементы могут в каждом конкретном случае включать в себя различие между реальным и воображаемым, представляя то одно, то другое, равно как и альтернативу истинного и ложного (любой элемент может получать любое из приведенных значений); но последовательность аудиовизуальных образов неуклонно превращает отчетливо выделимое в неразличимое и делает альтернативу неразрешимой. Первое свойство этого нового образа состоит в том, что «асинхрония» перестала означать то, что она значила в советском манифесте и в особенности у Пудовкина: речь идет уже не о том, чтобы донести до слуха речи и звуки, чей источник находится в относительном закадровом пространстве, и, стало быть, соотносящиеся с визуальным образом, но лишь избегающие дублирования его данных. Точно так же речь не идет о voice off, реализующем абсолютное закадровое пространство как отношение к целому, само по себе все еще принадлежащее визуальному образу. Voice off вступает в соперничество с визуальными образами или становится гетерогенным им, он утрачивает свойство превосходства над визуальными образами, определявшееся через отношение к их пределам: он утерял всемогущество, характеризовавшее его на первой стадии звукового кино. Он перестал все видеть, научился сомневаться, стал колеблющимся и двойственным, как в «Человеке, который лжет» Роб-Грийе или в «Песни об Индии» Маргерит Дюрас, поскольку разорвал узы с визуальными образами, наделявшими его всемогуществом, которого у них не было. Voice off утрачивает всемогущество, но обретает автономию. Как раз это преобразование глубоко проанализировал Мишель Шьон, и именно оно привело Бонитцера к выработке понятия «voice off off», противоположного «voice off» [644] .