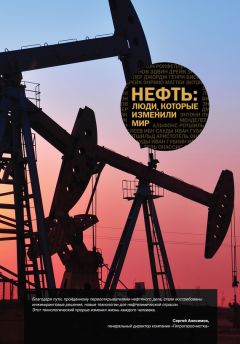Жиль Делёз - Кино
Выделить чистый речевой акт, чисто кинематографическое высказывание или звуковой образ – вот первый аспект творчества Жан-Мари Штрауба и Даниэл Юйе: этот акт должен быть оторван от своей предположительно прочитываемой материальной опоры, от текста, книг, писем или документов. Этот отрыв производится отнюдь не благодаря пылу или страсти; он предполагает определенное сопротивление текста, что лишь добавляет к этому тексту уважения, – но каждый раз требуется особое усилие, чтобы извлечь из него речевой акт. Так, в «Хронике Анны Магдалены Бах» предполагаемый голос Анны Магдалены произносит то, что написано в письмах самого Баха и свидетельствах одного из его сыновей, так что получается, будто голос говорит, как если бы писал и говорил Бах, – тем самым достигается своего рода несобственно-прямая речь. В «Собаках Фортини» мы видим книгу, ее страницы, перелистывающие их руки, писателя Фортини, читающего отрывки, которые он сам не выбирал; но ведь это происходит десять лет спустя и сводится к «слушанию собственного голоса», усталого, выражающего изумление, оцепенение или одобрение, обиду от непризнания заслуг или «уже слышанное». И, разумеется, в «Отоне» не показывается ни текст, ни театральное представление, – они лишь имплицируются, тем более что большинство актеров плохо знает французский язык (говорят с итальянским, английским или аргентинским акцентом): от театрального представления они отрывают кинематографический акт, от текста – ритм или темп, от языка – «афазию» [649] . В фильме «Из мрака к сопротивлению» речевой акт извлекает из себя мифы («нет, я не хочу…»), и, возможно, только во второй, современной части этого фильма ему удается перебороть сопротивление текста, предустановленного языка богов. Всегда существуют некоторые условия странности, и лишь в них можно выделить или, по выражению Маргерит Дюрас, «кадрировать» чистый речевой акт [650] . Сам Моисей – вестник некоего невидимого Бога или чистого Слова, преодолевающий сопротивление древних богов и даже не оставляющий своего имени на собственных скрижалях. И, возможно, сопоставление Штрауба с Кафкой подтверждается тем, что Кафка также считал, что мы обладаем лишь речевыми актами, чтобы преодолеть сопротивление господствующих текстов, предустановленных законов и уже вынесенных приговоров. Но если дела обстоят так в «Моисее и Аароне» и «Америке, классовых отношениях» , то недостаточно просто сказать, что речевой акт должен оторваться от того, что оказывает ему сопротивление, – он сам оказывает сопротивление, он сам и является актом сопротивления . Невозможно извлечь речевой акт из того, что оказывает ему сопротивление, не придав ему при этом силу сопротивления против того, что ему угрожает. Он – насилие, помогающее «там, где царствует насилие», то самое баховское Hinaus! ( нем. «вон! прочь!» – прим. пер. ). Разве тем самым речевой акт уже не становится музыкальным в Моисеевом Sprechgesang ( нем. «речитатив». – Прим. пер. ), но также и в исполнении музыки Баха, отрывающемся от партитур еще больше, нежели голо с Анны Магдалены – от писем и документов? Речевой или музыкальный акт представляет собой акт борьбы: он должен быть экономным и редким, наделенным бесконечным терпением, чтобы навязать себя тому, что оказывает ему сопротивление, – но также и до крайности неистовым, чтобы самому стать сопротивлением, актом сопротивления [651] . Неодолимый, он превозмогает…
В фильме «Непримирившиеся» речевым актом является речь старухи, на сей раз скорее шизофреническая, нежели подверженная афазии, и достигающая кульминации в звуковом образе финального выстрела из револьвера: «Я наблюдала за шествием времени; все кипело, дралось между собой, платило миллион за конфетку, а затем имело лишь три гроша на кусочек хлеба». Речевой акт схвачен как бы наискось, сквозь все проницаемые им визуальные образы, в свою очередь, организующиеся в соответствующее количество геологических и археологических пластов, в переменном порядке, в зависимости от разломов и лакун: Гинденбург, Гитлер, Аденауэр, 1910, 1914, 1942, 1945… Именно таково у Штрауба сравнительное положение звукового и визуального образов: люди говорят в пустом пространстве, и, пока речь поднимается в гору, пространство погружается в землю, и его не видно, но можно лишь прочесть его археологические залежи, его густую стратиграфию, – оно отмечает труды, которые оказались необходимыми, и жертвы, принесенные ради того, чтобы сделать плодородными поля; оно отмечает проходившие на них сражения и выброшенные трупы ( «Из мрака к сопротивлению», «Собаки Фортини ). История неотделима от земли, а классовая борьба происходит под землей, и если мы хотим уловить некое событие, то его не следует показывать; нужно не двигаться вдоль события, а вонзаться в него, проходить через все геологические слои, в которых заключена его внутренняя история (а не только через более или менее отдаленное прошлое). «Я не верю в большие ревущие события», – говорил Ницше. Уловить событие означает привязать его к безмолвным пластам земли, составляющим его подлинную непрерывность или вписывающимся в классовую борьбу. В истории есть нечто крестьянское. А значит, в наши дни ею является визуальный образ, стратиграфический ландшафт, в свою очередь противостоящий речевому акту и противопоставляющий ему какую-то безмолвную скученность. Даже письма, книги и документы, – то, от чего оторвались речевые акты, – перешли в ландшафт, вместе с историческими памятниками, захоронениями и надгробными надписями. Слово «сопротивление» имеет у Штраубов массу значений, и вот теперь речевому акту и Моисею сопротивляются земля, дерево и скала. Моисей – это речевой акт или звуковой образ, Аарон же – образ визуальный, он «являет взору», а то, что он являет взору – исходящая из земли непрерывность. Моисей – это новый кочевник, и ему не нужно иной земли, кроме непрерывно блуждающего Слова Божия, но Аарону нужна какая-то территория, и он ее уже «прочитывает» как цель движения. Между ними пустыня, но также и народ, которого «пока нет», но который фактически все-таки уже есть. Аарон противостоит Моисею, народ Моисею сопротивляется. Что же выберет народ: визуальный или звуковой образ, речевой акт или землю [652] ? Моисей погружает Аарона в землю, но без Аарона у Моисея нет отношений с народом, с землей. Можно утверждать, что Моисей и Аарон представляют собой две части одной идеи; но, во всяком случае, этим частям больше не суждено сформировать целое, ибо они образуют дизъюнкцию сопротивления, которое должно воспрепятствовать деспотизму слова и не дать земле принадлежать кому бы то ни было, быть в чьем-либо обладании, покориться собственному верхнему пласту. Это напоминает Сезанна, наставника Штрауба: с одной стороны, «упрямая геометрия» визуального образа (рисунок) вонзается в землю и способствует прочтению «геологических залежей»; с другой же стороны, облако, «воздушная логика» (по выражению Сезанна, цвет и свет), но также и речевой акт, поднимающийся с земли к солнцу [653] . Таковы две траектории: «голос приходит с другой стороны образа». Они противостоят друг другу, однако именно в этой непрерывно воссоздаваемой дизъюнкции подземная история наделяется эстетически волнующим смыслом, а устремленный к солнцу речевой акт обретает политически выразительный смысл. Речевые акты кочевника (Моисей), бастарда («Из мрака к сопротивлению»), изгнанника («Америка…» ) представляют собой акты политические, и в силу этого с самого начала они являлись актами сопротивления. Если Штрауб избирают для фильма, поставленного по роману Кафки, название «Америка, классовые отношения», то причина этому в том, что с самого начала герой выступает в защиту подпольного человека, кочегара из низших слоев общества, – а затем ему приходится столкнуться с махинациями господствующего класса, разлучающего его с дядей (доставка письма); речевой акт, звуковой образ является актом сопротивления и для Баха, поколебавшего границы между профанным и священным, и для Моисея, преобразовавшего отношения между жрецами и народом. Но и наоборот, визуальный образ, теллурический земной ландшафт развивает прямо-таки эстетическую потенцию, благодаря которой обнаруживаются исторические пласты и следы политической борьбы, над которыми он надстроен. В фильме «Всякая революция есть бросок игральных костей» персонажи декламируют стихотворение Малларме на кладбищенском холме, где погребены трупы коммунаров: они перераспределяют элементы этого стихотворения согласно их типографскому характеру, словно эксгумированные объекты. Следует утверждать сразу и то, что слово создает событие, поднимая его, и то, что безмолвное событие погребено под землей. Событие – это непременно сопротивление, располагающееся в промежутке между тем, что выдергивает речевой акт, и тем, что погребается в земле. Это цикл неба и земли, внешнего света и подземного огня, и к тому же звукового и визуального элементов, который никогда не преобразует целого, но каждый раз творит дизъюнкцию между двумя образами и в то же время – новый тип их отношений, которые очень точно можно назвать отношениями несоизмеримости, но никак не отсутствием отношений.