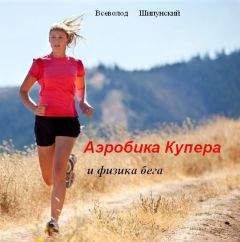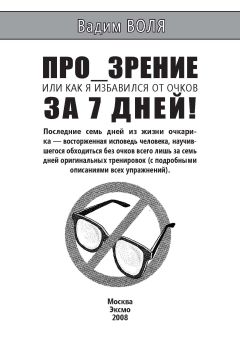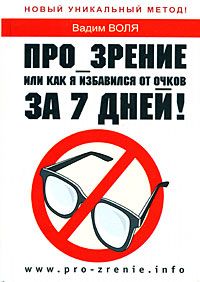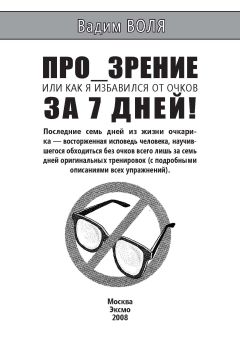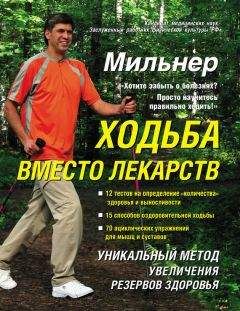Захар Прилепин - Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы
Я курил трубку, лёжа на диване.
– Здравствуй, душа моя! – сказал мне, войдя весьма торопливо и изменившимся голосом, Александр Сергеевич Пушкин.
– Здравствуй, что нового?
– Новости есть, но дурные. Вот почему я прибежал к тебе.
– Доброго я ничего ожидать не могу… но что такое?
– Вот что: Сабанеев сейчас уехал от генерала. Дело шло о тебе. Я не охотник подслушивать, но, слыша твоё имя, часто повторяемое, признаюсь, согрешил – приложил ухо. Сабанеев утверждал, что тебя непременно надо арестовать; наш Инзушко – ты знаешь, как он тебя любит, – отстаивал тебя горою. Долго еще продолжался разговор, я многого недослышал, но из последних слов Сабанеева ясно уразумел, что ему приказано, и что ничего открыть нельзя, пока ты не арестован.
– Спасибо, – сказал я Пушкину, – я этого почти ожидал! Но арестовать штаб-офицера по одним подозрениям – отзывается какой-то турецкой расправой. Впрочем, что будет, то будет».
Растроганный и взволнованный Пушкин скажет:
– Ах, Раевский, позволь мне обнять тебя!
– Ну, ну. Ты же не гречанка…
На том и расстались.
Раевский ещё успеет попросить француженку-гадалку погадать ему:
«Пики падали на моего короля. Кончилось на том, что мне предстояли чрезвычайное огорчение, несчастная дорога и неизвестная отдалённая будущность…
Возвратясь домой, я лёг и уснул покойно. Я встал рано поутру, приказал затопить печь. Перебрал наскоро все свои бумаги и всё, что нашёл излишним, сжёг…
Дрожки остановились у моих дверей. Я не успел взглянуть в окно, а адъютант генерала Сабанеева, гвардии подполковник Радич, был уже в моей комнате.
– Генерал просил вас к себе, – сказал он мне вместо доброго утра.
– Хорошо, я буду!
– Но, может быть, у вас дрожек нету, он прислал дрожки.
– Очень хорошо. Я оденусь.
…Этот роковой час 12-й решил участь всей остальной жизни моей. Мне был 27-й год».
Всё самое страшное зачастую происходит совершенно обыденно: от этой мысли Раевский потом не мог отделаться целую жизнь. Вот Пушкин зашёл, гадалка погадала, адъютант генеральский явился, дрожки предложил: «Не хотите ль в ад, а то вам, поди, не на чем».
В качестве свидетелей по его делу было привлечено пятьдесят офицеров и более шестисот солдат. И в ходе расследования всплыли: крамольные работы Раевского «Рассуждение о солдате» и «Рассуждение о рабстве крестьян» (где в числе прочего упоминается о том, что известные автору помещики торгуют людьми и содержат собственные гаремы), разнообразные возмутительные стихи, непрестанные разговоры с офицерами о деспотии, страшные слова, сказанные однажды солдатам: «…должно защищать свою свободу и честь, и, если один тиран покажется, выдьте десять человек и, уничтожив одного, спасите двести».
Даже то, что он «курил с солдатами», – и то припомнили.
Ему вполне грозила за всё это… смертная казнь.
В заключении, ещё не зная о грядущем чудовищном приговоре, но предчувствуя его, Раевский напишет пронзительные стихи «К друзьям в Кишинёв».
Стихи эти сложными путями попадут в руки к тем, кому адресовались: Орлову и Пушкину. Потом эти строки ещё семьдесят лет будут гулять с перепутанным авторством: сначала их припишут Константину Рылееву, потом Александру Полежаеву.
Раевский писал:
Не будит вас в ночи глухой
Угрюмый оклик часового
И резкий звук ружья стального
При смене стражи за стеной.
И торжествующее мщенье,
Склонясь бессовестным челом,
Ещё убийственным пером
Не пишет вам определенья
Злодейской смерти под ножом
Иль мрачных сводов заключенья…
О, пусть благое привиденье
От вас отклонит этот гром!
Картины, которые рисует Раевский, сделаны на редкость жёстко:
Быть может – о, молю душой
И сил и мужества от неба! —
Быть может, чёрный суд Эреба
Мне жизнь лютее смерти злой
Готовит там, где слышны звуки
Подземных стонов и цепей
И вопли потаённой муки;
Где тайно зоркий страж дверей
Свои от взоров кроет жертвы.
Полунагие, полумYертвы,
Без чувств, без памяти, без слов,
Под едкой ржавчиной оков,
Сии живущие скелеты
В гнилой соломе тлеют там,
И безразличны их очам
Темницы мёртвые предметы.
Стихи, что и говорить, замечательные; характерная для его прежней поэзии элегическая, полная размытых символов манера была разом преодолена.
Обращаясь в тех же стихах к Пушкину, по сложившейся уже привычке старшему в их паре, но к тому же ещё в силу занимаемого теперь им положения, Раевский настаивал:
Оставь другим певцам любовь!
Любовь ли петь, где брызжет кровь,
Где племя чуждое с улыбкой
Терзает нас кровавой пыткой,
Где слово, мысль, невольный взор
Влекут, как ясный заговор,
Как преступление, на плаху
И где народ, подвластный страху,
Не смеет шёпотом роптать…
Реакция Пушкина была совершенно неожиданной.
Сказав сразу по прочтении послания Раевского одному знакомому: «После таких стихов мы не скоро увидим нашего спартанца», – Пушкин попытается ответить спартанцу лично.
Первый ответ начинается так:
Недаром ты ко мне воззвал
Из темноты глухой темницы.
И здесь Пушкин останавливается. Дальше не знает, что пи сать. «Недаром». Да, недаром. Недаром, да, – и что? Что?
Пробует ещё раз – Пушкина явно возмущает, что ему ука зывают, как и что писать, – и получается предерзостно:
Не тем горжусь я, мой певец,
Что привлекать умел стихами
Вниманье пламенных сердец,
Играя смехом и слезами…
<…>
Не тем, что у столба сатиры
Разврат и злобу я казнил,
И что грозящий голос лиры
Неправду в ужас приводил…
<…>
Иная, высшая награда
Была мне роком суждена —
Самолюбивых дум отрада!
Мечтанья суетного сна!..
Если попытаться переложить это в прозе, то вот: любезный Раевский, я больше не хочу спасать народ, подвластный страху, я по другой части: мечтанья, самолюбие, – а ваши фартуки, молотки, и всякое якобинство… знаешь, я всё это как-то разлюбил.
Но, осознавая, что переправлять такое человеку в темницу не совсем милосердно, Пушкин пишет новое посвящение, где признаётся:
Я говорил пред хладною толпой
Языком истины свободной,
Но для толпы ничтожной и глухой
Смешон глас сердца благородный.
Везде ярем, секира или венец,
Везде злодей иль малодушный,
Тиран (в строке у Пушкина
пропуск. – З.П.) льстец,
Иль предрассудков раб послушный.
Каких-то слов Пушкину не хватило! «Тиран, льстец» – кто ещё?
Кто и каких именно предрассудков раб? О чём речь?
Так и не договорив что-то самое важное в первых трёх посвящениях, Пушкин, уже позже, берётся за ещё одно:
Бывало, в сладком ослепленье
Я верил избранным душам,
Я мнил – их тайное рожденье
Угодно властным небесам,
На них указывало мненье —
Едва приближился я к ним.
…………………………………………
И снова обрыв строки; и молчание.
Хотя здесь смысл этого молчания куда более ясен. Приближался – и… если не разочаровывался, то как минимум начинал сомневаться в «избранных душах».
В записях графа Струтынского приведены рассуждения Пушкина, касавшиеся как раз кишинёвского периода и объясняющие эти обрывы: «Мне казалось, – якобы говорил Пушкин, – что подчинение закону есть унижение, всякая власть – насилие, каждый монарх – угнетатель, тиран своей страны, и что не только возможно, но и похвально покушаться на него словом и делом… Я не помнил себя от радости, когда мне запретили въезд в обе столицы и окружили меня строгим полицейским надзором. Я воображал, что сравнялся с мужами Плутарха и заслужил посмертного прославления в Пантеоне!.. Но всему своя пора и свой срок. Время изменило лихорадочный бред молодости. Всё ребяческое слетело прочь. Сердце заговорило с умом словами небесного откровения, и послушный спасительному призыву ум вдруг опомнился, успокоился, усмирился; и, когда я осмотрелся кругом, когда внимательнее, глубже вникнул в видимое, – я понял, что казавшееся доныне правдой было ложью, чтимое – заблуждением, а цели, которые я себе ставил, грозили преступлением, падением, позором!»
Безусловно, слушая пересказ графа Струтынского, мы рискуем быть введёнными в частичное заблуждение: приведённая речь всё-таки слишком горяча и патетична для Пушкина. Однако общий смысл её кажется переданным верно, ведь до пушкинского «Нет, я не льстец, когда царю / Хвалу свободную слагаю…» остаётся не так много времени – а там про то же.
Но начало этому всему положено было в Кишинёве.
Здесь Пушкину грозила возможность преступления и, как он это понимал, позора.
Здесь он нашёл кого-то, кого стоит поставить меж «тираном» и «льстецом» – но имя не придумал. Да и разве дашь какое-то имя своим товарищам, от которых не отрекался, но с которыми тебя что-то, кажется, уже разлучает?