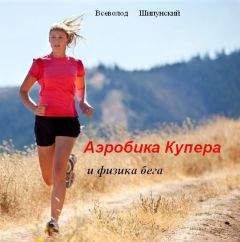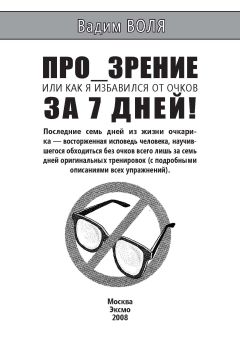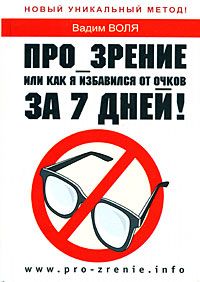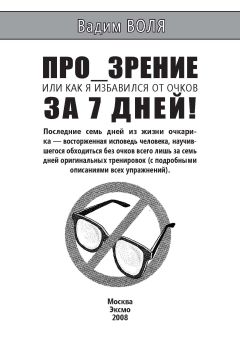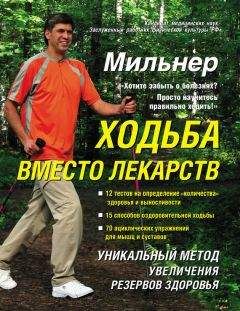Захар Прилепин - Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы
Никак не отрицая смысл и необходимость просвещения, Вяземский вдруг обнаружил трогательную поэтичность в смирении и набожности своего народа.
«В отличие от других стран, – на редкость проницательно подметит Вяземский, – у нас революционным является правительство, а консервативной – нация. Правительство способно к авантюрам, оно нетерпеливо, непостоянно, оно – новатор и разрушитель. Либо оно погружено в апатичный сон и ничего не предпринимает, что бы отвечало потребностям и ожиданиям момента, либо оно пробуждается внезапно, как от мушиного укуса, разбирает по своему произволу один из жгучих вопросов, не учитывая его значения и того, что вся страна легко могла бы вспыхнуть с четырёх углов, если бы не инстинкт и здравый смысл нации…»
«Инстинкт и здравый смысл нации»!
В другой раз Вяземский перечисляет причины, объясняя, отчего сложилось такое положение дел: «Из всех наших государственных людей только разве двое имеют несколько русскую фибру: Уваров и Блудов. Но, по несчастью, оба бесхарактерны, слишком суетны и легкомысленны, то есть – пустомысленны. Прочие не знают России, не любят её, то есть не имеют никаких с неё сочувствий. Лучшие из них имеют патриотизм официальный, они любят своё министерство, свой департамент, в котором для них заключается Россия – Россия мундирная, чиновническая, административная. Они похожи на сельского священника, который довольно рачительно, благочинно совершал бы духовные обряды в церкви во время служения, но потом бы не имел ничего общего с прихожанами своими».
Революционером Вяземский не был никогда, оголтелым государственником так и не станет, но от либеральных своих иллюзий он ушёл настолько далеко, что и Пушкин, споривший с ним о Польше, подивился бы.
1848 год в Европе знаменуется чередой революций. Начнётся в феврале с Франции – тогда Николай I обратился к Австрии и Пруссии, предлагая обсудить, не ввести ли в Париж войска, чтобы восстановить монархию, а то в прошлый раз началось так же, а закончилось Наполеоном в Москве. Но в Париже справились сами, а у Австрии и Пруссии вскоре начались собственные проблемы.
К середине года монархии посыпались одной за другой: революционное движение охватило Италию, Венгрию, Чехию, германские города.
Вспыхнули восстания в польском Кракове (находившемся в составе Австрии) и в Познани (польской области, принадлежавшей Пруссии), но эти попытки революционных переворотов, естественно, имели уже ярко выраженный национальный окрас.
Реакция Петра Андреевича Вяземского? Он пишет стихи «Святая Русь»:
Как в эти дни годины гневной
Ты мне мила, Святая Русь!
Молитвой тёплой, задушевной
Как за тебя в те дни молюсь.
<…>
Как я люблю твоё значенье,
В земном, всемирном бытии,
Твоё высокое смиренье
И жертвы чистые твои…
Если языком суровой прозы пересказывать, то молится теперь Вяземский о том, чтоб либеральная буржуазия не устроила переворот в его стране.
Филолог Любовь Киселёва отмечает по поводу этих стихов: «Увлекаемый риторикой, он не замечает, что парадоксальным образом возвращается к идеям А.С.Шишкова эпохи 1812 года и почти его цитирует:
Мне свят язык наш величавый:
Столетья в нём отозвались;
Живая ветвь от корня славы,
Под нею Царства улеглись.
Идея Шишкова о том, что русский и церковнославянский – это один язык, когда-то вызвавшая шквал критики арзамасцев, теперь как бы вполне Вяземским разделяется:
На нём мы призываем Бога;
Им – братья мы семьи одной,
И у последнего порога
На нём прощаемся с землёй.
Однако Вяземский идёт ещё дальше, утверждая, что идея Святой Руси – это идея, так сказать, произведённая самим русским языком:
Святая Русь! Родного слова
Многозначительная речь!
Это утверждение перекликается с известной идеей Шишкова о том, что язык “о составлении слов своих, так сказать, сам умствовал, из себя извлекал их”».
Стихи Вяземского выходят в «Сыне Отечества» и «Санкт-Петербургских ведомостях», а затем – отдельной брошюрой.
В 1849 году он был пожалован орденом Святого Станислава 1-й степени. С новым орденом, впервые после десятилетнего перерыва, явился во дворец.
Те претензии, что Вяземский в раздражении предъявлял России и её ревнителям в прежние времена, он сам же начинает опротестовывать.
Была у него, к примеру, такая запись в дневнике: «Мне так уж надоели эти географические фанфаронады наши: от Перми до Тавриды и проч. Что уж тут хорошего, чем радоваться и чем хвастаться, что мы лежим врастяжку, что у нас от мысли до мысли пять тысяч вёрст, что физическая Россия – Федора, а нравственная – дура».
Написано было как раз в год польского восстания; слова эти иные граждане любовно цитируют по сей день.
Но в 1849 году Вяземский ровно на ту же самую тему пишет стихи:
Бесконечная Россия
Словно вечность на земле!
Едешь, едешь, едешь, едешь,
Дни и вёрсты нипочём!
Тонут время и пространство
В необъятности твоей.
<…>
Грустно! Но ты грусти этой
Не порочь и не злословь:
От неё в душе согретой
Свято теплится любовь.
Степи голые, немые,
Всё же вам и песнь, и честь!
Всё вы – матушка Россия,
Какова она ни есть!
Накануне Крымской войны Вяземский, так совпало, вновь оказался в зарубежном путешествии.
Поразила его на этот раз оглушительная пропагандистская кампания, развёрнутая европейскими газетами против России – в её перекрёстный и безапелляционный гвалт он угодил.
История, которая началась в 1812–1814 годах и продолжилась в 1831-1832-м, здесь словно бы закольцовывалась.
Вдруг выяснилось, что Франция и Великобритания, традиционно недолюбливавшие друг друга (англичане к тому же, напомним, воевали вместе с русскими против Наполеона), готовы простить взаимные обиды и плечом к плечу ввязаться в конфликт на стороне Турции. Великобритания – по той элементарной причине, что поставила Турцию в экономическую зависимость (ещё в 1838 году), а Франция – желая компенсировать так и не забытое поражение: общество, встречавшее в 1814 году русскую армию цветами, теперь требовало реванша.
Австрия и Пруссия соблюдали нейтралитет, но при определённых обстоятельствах тоже были готовы присоединиться к войне против России.
Вяземский писал в дневнике: «Французы и англичане беспрестанно сваливают на нашего царя ответственность за европейскую войну и все гибельные последствия для общественного порядка, которые влечёт за собой возбуждение восточного вопроса. Но кто, если не они, обратил в общий европейский вопрос, вопрос исключительно частный, кто даёт поединку между двумя спорными противниками обширные размеры всенародной, всеевропейской битвы? Они подняли гвалт, да они же говорят, что мы зачинщики. О лондонских и парижских ротозеях речи нет, но правительства очень хорошо знают, что Россия не хочет завладеть Царьградом, по крайней мере в настоящее время (важная оговорка. – З.П.). Россия не хочет покорить Турции, но не хочет, чтобы нравственно Франция и Англия владели ею…
Свидетели спора, возникшего между двумя противниками, западные державы, то есть Франция и Англия, могли сказать под рукой России: кончайте спор свой как хотите, но знайте, что мы добровольно не согласимся на новые завоевания и Царьграда без боя вам не отдадим, если сами турки не будут уметь отстоять себя.
Да и чего бояться нам, если дело на то пойдёт, – передряги, которую могут поднять недовольные при разгаре европейской войны? Французам она опаснее, нежели нам. Могут вспыхнуть частные беспорядки в Польше, но Польша теперь не восстанет, как в 1830 году. Мятеж в Россию не проникнет».
В чём-то Вяземский был прав, в чём-то – нет; но чем дальше, тем дело оборачивалось хуже. Переживая приступы брезгливости, он писал про журналистов и журналы свободной Европы, что они «вопиют и беснуются против так называемых самовластных и неслыханных требований России. Дура-публика не обращает внимания на официальные документы и увлекается криками журнальных крикунов».
«Журналы уморительны своей нелепостью… кричат и шумят, а ничего не объясняют».
«…La Presse врёт и беснуется. Журналы не имеют никакого понятия о России и Турции, но расправляются ими как своей собственностью».
Переезжая из страны в страну, картину Вяземский видел везде примерно одну и ту же. В 1854-м лондонская «Таймс» писала: «Хорошо было бы вернуть Россию к обработке внутренних земель, загнать московитов вглубь лесов и степей».
Как тут было не огорчиться и не осерчать.
Гнев Вяземского касался не только европейцев, конечно. О русской дипломатии того времени он писал так: «С турками и Европою у нас один общий язык: штыки. На этом языке ещё неизвестно, чья речь будет впереди. А на всяком другом нас переговорят, заговорят, оговорят и, по несчастью, уговорят».