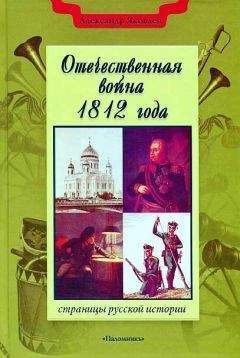Юрий Чернов - Судьба высокая «Авроры»
— Началось! — упрямо повторил Чемерисов. И, желая поскорее сбросить и убрать заснеженную одежду, протянул товарищам объявление, сорванное с рекламной тумбы. Чуть примятый клок светло-серой бумаги пошел по рукам.
ОБЪЯВЛЕНИЕкомандующего войсками Петроградского военного округа
Последние дни в Петрограде произошли беспорядки, сопровождающиеся насилиями и посягательствами на жизнь воинских и полицейских чинов.
Воспрещаю всякое скопление на улицах.
Предваряю население Петрограда, что мною подтверждено войскам употреблять в дело оружие, не останавливаясь ни перед чем, для водворения порядка в столице.
25 февраля 1917 г.
Командующий войсками
Петроградского военного округа
генерал-лейтенант Хабалов— «Предваряю население», — передразнил Бабин.
— А ты тянешь! Рассказывай! — насели товарищи на Чемерисова. Приказ генерал-лейтенанта Хабалова подогрел их нетерпение.
Иван Чемерисов видел не так уж много. На перекрестках, на мостах полицейские патрули. В вихрях метели темным призраком пронесся конный разъезд. У каменного здания суетились какие-то люди. Бледными лучами карманных фонариков они шарили по стене и соскребали прокламации.
На Большом Сампсониевском проспекте, неподалеку от серого, в подтеках дома, где жил брат, Иван Чемерисов увидел разгромленную хлебную лавку. Окна, двери были выломлены, громоздились сорванные, искореженные деревянные полки, присыпанные комьями штукатурки. У входа поземка намела белый снежный барьер.
У брата Чемерисов застал нескольких рабочих. Они негромко переговаривались. По отрывочным фразам можно было кое о чем догадаться. Поминали конного жандарма, сбившего с ног рабочего. Кони затоптали рабочего насмерть. Жандарма стащили с седла, разорвали в клочья.
«Началось, — сказал одни рабочий. — Теперь пойдет…»
Обуховцы забастовали — все, тысяч четырнадцать. И на других заводах также. Значит, напор будет расти. Стало быть, и отпор будет остервенелый. Жандармы уже пулеметы на крышах расставили. А войска?
Один рабочий уверял: «Солдаты на нас руку не подымут. В своих стрелять не станут». Другой колебался: «Кто их знает?» Называли имя Чугурина[11]. Мол, Чугурин призывал брататься с солдатами, разъяснять им, что к чему.
А кто такой Чугурин — Иван Чемерисов не знал. И вообще больше ничего рассказать не смог. Засобирался в обратный путь, задерживаться побоялся. Брат только спросил его:
— А у вас как? Тихо? Глядите не проспите! Вместе надо…
— Что же нам делать, сидим за семью замками! — вырвалось у Бабина. Попробуй разберись!
— Вот, — протянул Чемерисов Куркову прокламацию, извлеченную из потайного кармана. — Дали на дорогу. Почитай, мол, своим.
Курков развернул тщательно сложенный листок, матросы сдвинулись теснее. Несколько секунд он молча всматривался в слова:
— «Листовка Петербургского комитета РСДРП». Слушайте!
Он читал негромко, но слова были сильные, горячие, казалось, они вырываются из кубрика, слышны далеко-далеко:
— «Жить стало невозможно. Нечего есть… Набор за набором, поезд за поездом, точно гурты скота, отправляются наши дети и братья на человеческую бойню.
Нельзя молчать!
Отдавать братьев и детей на бойню, а самим издыхать от голода и холода и молчать без конца — это трусость, бессмысленная, преступная, подлая.
Все равно не спасешься. Не тюрьма — так шрапнель, не шрапнель — так болезнь или смерть от голодовки и истощения.
Прятать голову и не смотреть вперед — недостойно. Страна разорена. Нет хлеба. Надвинулся голод. Впереди может быть только хуже. Дождемся повальных болезней, холеры…
Требуют хлеба — отвечают свинцом! Кто виноват?
Виновата царская власть и буржуазия. Они грабят народ в тылу и на фронте».
Курков перевел дыхание и продолжал:
— «Царский двор, банкиры и попы загребают золото. Стая хищных бездельников пирует на народных костях, пьет народную кровь. А мы страдаем. Мы гибнем. Голодаем. Надрываемся на работе. Умираем в траншеях. Нельзя молчать!
Все на борьбу! На улицу! За себя, за детей и братьев!»
Машинисты, собравшиеся в кубрике, понимали: огонь разгорается все жарче и жарче. Собственно, и начало было бурным, знали они о нем не понаслышке: когда завод забастовал, они с рабочими вышли на улицы. Петроград затопили колонны демонстрантов. Мостовые не вмещали движущиеся потоки, они выплескивались на тротуары. Пешеходы в обратную сторону идти не могли, толпа увлекала их за собой, набухая, становясь гуще, шумнее. Хлебные лавки, попадавшиеся на пути, разносили в щепы, словно лавки и были главными виновниками голода, исчезнувшего хлеба, закипающей ярости обездоленных, доведенных до неистовства людей.
Кое-где навстречу ползли трамваи, беспокойно звоня и прося пропустить их. Они как бы желали жить и двигаться по старому, заведенному когда-то порядку. Трамваи останавливали, опрокидывали посреди улицы, и это было вызовом заведенному порядку, обанкротившемуся, проклятому многотысячными массами голодных людей.
На подступах к центру все чаще путь преграждали заслоны полиции. Движение колонн замедлялось. Передние ряды вступали в перебранку со стражами закона.
— Ишь, толстобрюхие, ремни понавешали, в окопы вас гнать, а вы с бабами воюете!
Полицейский пристав, расставив, как циркуль, ноги, стоял насупясь и зло глядел на расходившуюся работницу. Его облегала тесная, светло-серая шинель, перехваченная, как бочка обручем, широким поясом.
— Наддай назад! — прохрипел пристав.
Полицейские обнажили шашки, преграждая путь.
— Фараоны! — понеслось из толпы.
Задние ряды нажимали. Лавина, затопившая улицу от тротуара до тротуара, надвигалась медленно, но неумолимо.
— Фараоны! Душители! — гремели озлобленные голоса, а лица — гневные, скуластые, сведенные худобой — были полны решимости.
Полицейская цепь дрогнула, попятилась назад. Пристав что-то крикнул мордастому дворнику с номером на медной бляхе и нырнул во двор.
— Ура-а-а! — взметнулось и понеслось по рядам.
Передние устремились в брешь. Расширяясь и набирая скорость, лавина хлынула к Невскому проспекту. В потоке бегущих были старые и молодые, мужчины и женщины, был даже один полицейский — без шапки, без сабли, с оттопыренными погонами. Он не мог выбраться из густой, взбудораженной толпы, она несла его, как щепку несет полая вода, и только испуг на лице выдавал смятение и беспомощность.
Невский, как море, вбирал бесчисленные людские реки, они текли из всех переулков, и этот широкий, сверкавший витринами проспект царских министров, дворянских особняков, золотопогонного офицерства, бобровых воротников впервые так победно шумел и колыхался во власти курток и картузов простого люда.
То тут, то там взметались полотнища кумача. К балкону второго этажа кто-то приколотил фанерный щит с надписью: «Хлеба!» Из ближнего переулка доносилась «Марсельеза». Опрокинутый трамвай превратился в трибуну для ораторов.
Свободно, не прячась — теперь ли бояться агентов охранки! — выступали ораторы. Их страстные лица, обращенные к массе, их руки, сжатые в кулаки, передавали порыв, волю и боевой азарт тех, кто вознес их на импровизированную трибуну.
Ораторы не говорили — они исторгали изнутри, бросали в толпу громкие на пределе голосовых возможностей — слова, рубили кулаком воздух. И в ответ многоголосо, хрипло, нестройно, но властно неслось:
— Правильно! Крой! Давай жарче!
Опьяненные свободой, клокотанием тысячеголовой и тысячерукой массы, авроровцы кричали вместе со всеми, и голоса сливались в гул одобрения и восторга.
Из речей можно было понять, что сегодня, 23 февраля[12], в Международный женский день, первыми вышли на улицы Петрограда текстильщицы, требуя хлеба, требуя вернуть из окопов мужей и братьев, требуя человеческих условий жизни. Их почин, как искра, попавшая в солому, разгорелся пожаром заводских митингов, где выступали большевики. Потоки демонстрантов устремились к центру.
— Долой войну! Долой голод! Да здравствует революция! — провозглашал очередной оратор, распахнувший пальто, скомкавший в руках шапку, всем телом подавшийся вперед, к толпе. И в это мгновение, словно ветерок, донеслось неясное и тревожное:
-..а-за-ки!..
Вторая волна повторила внятно и громко холодящее слово:
— Ка-за-ки!..
Из переулка на рысях вытягивалась сотня с офицером во главе. Еще нельзя было разглядеть лица казаков, еще не дрогнула людская стена, еще не качнул ее страх, но кто-то, обезумев, уже бросился к массивным воротам и, барабаня кулаками, надрывно голосил, молил о помощи и пощаде.
Толпа напряглась, упруго сжалась, замерла в ожидании.
Кривая сабля серебряно сверкнула в руке офицера. Конь, храпя и разбрасывая пену, высекал копытами комья снега и льда. Первые ряды явственно услышали кожаный скрип казачьих седел.