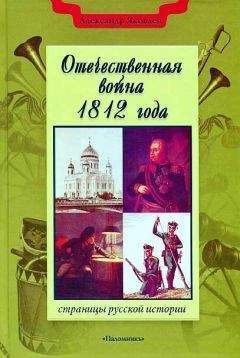Юрий Чернов - Судьба высокая «Авроры»
Толпа чуть раздвинулась, пропуская офицера в тесный людской коридор. Вытягиваясь по одному, притормаживая коней, за офицером последовали казаки. Никто из них не вынул сабель, лица были приветливы, один чубатый подмигнул молчаливо съежившейся работнице и повел плечами.
Вздох облегчения прошумел над толпой. Она ожила, зашевелилась, загалдела десятками голосов. Шутка ли: казаки, не раз обагрявшие себя невинной кровью, не будут больше палачами, не пойдут против народа…
В кубрике машинистов царило тягостное раздумье. Ноги не связаны, а пойти никуда нельзя; руки не связаны, а до винтовок не дотянуться пирамида на палубе пустая: оружие заперто в артиллерийском погребе.
Что же делать?
Крутов — рабочий, призывавший, если каша заварится, держаться вместе, — где он? Где его искать? Или каша заварилась слишком быстро? Так и не успели обо всем договориться…
Авроровцы, хлебнувшие на Невском хмельного воздуха свободы, уже не могли сидеть сложа руки. Рассказ Ивана Чемерисова лишил покоя: на крышах полицейские пулеметы… А с кем войска? Протянут ли руку рабочим? Или будут нейтральны, как те казаки? Что происходит в городе сегодня, сейчас?
Старший унтер-офицер Петр Курков отправился на разведку. На палубе его окликнул главный боцман Диденко:
— Не знаешь, что ли, что шастать по палубе запрещено?!
Курков сказал, что идет к инженер-механику Малышевичу. Вернувшись в кубрик, сообщил: в городе пожары, слышна стрельба.
— Надо связаться с матросами караульной команды, — предложил Белышев. — Как-никак они электростанцию охраняют, у них винтовки…
Договорить Белышев не успел. Дробь башмаков загремела по трапу. В кубрик вбежал запыхавшийся Алексей Краснов, машинист левой машины, друг и земляк Белышева, уроженец Владимирщины, парень спокойный и немного робкий. Прежде таким возбужденным товарищи его не видели.
— Дожили! — выпалил Краснов. — «Аврору» превращают в тюрьму. В карцер повели арестованных рабочих. К нам шли…
Узнав, что Никольский превращает крейсер в тюрьму, матросы пришли в ярость.
— Айда наверх, хватит! — требовали одни.
— Дракона в карцер! — вторили другие.
Третьи охлаждали не в меру горячих:
— На мостике «максим» появился. Никольский быстро наши головы сосчитает.
Из города глухо докатывалась отдаленная пальба. Черные столбы дыма уходили в небо. Где-то горели здания. Эти пожары и отголоски боя распаляли матросскую массу, готовую к бунту, к немедленным действиям.
В отличие от других из кубрика машинистов громкие возгласы не доносились. Тут говорили вполголоса, намечая план захвата корабля и освобождения рабочих. Первое, что пришло в голову, — поднять караульную команду. Но от этой мысли отказались. Людей там надежных нет. Поддержать других, может, и поддержат, а запевалами не будут.
Броситься к карцеру, снять часового и освободить рабочих? А дальше? На мостиках — пулеметы. От пуль ни брезентовая роба, ни фланелевки не уберегут. На берегу — у заводских ворот — солдаты. Долго ли Никольскому снять трубку — и батальон серых папах расстреляет безоружных авроровцев…
— Надо начинать с Дракона, — сказал Курков.
— А как яво возьмешь? — усомнился Васютович.
Тихий и скромный, Васютович редко встревал в общие дискуссии, и, хотя хорошо говорил по-русски, одно слово ему упорно не давалось: вместо «его» он неизменно говорил «яво».
— Может, на вечерней молитве? — неуверенно предложил Белышев.
— Правильно! — поддержал плотник Липатов. — Электрики перережут заводской кабель[13]. В темноте обезвредим Дракона.
Довольный, что найдено решение, Липатов потер большие, как лопаты, шершавые, пахнущие столярным клеем ладони.
Вечерняя молитва проводилась в 21 час на церковной палубе. Приходили все, кроме занятых на вахте.
— Самый раз богу душу отдать, — оживился Сергей Бабин. — Погаснет свет — и Дракона за горло…
Мало-помалу прорисовался план действий: кому свет гасить, кому Никольского обезоружить, кому в артпогреб за винтовками идти, кому рабочих освобождать. А пока решили разойтись по кубрикам, с матросами поговорить: пусть на вечерней молитве скажут свое слово…
Рано сгустились февральские сумерки. Всполохи пожарищ тревожно багрянили городское небо. Корабельные склянки[14], разорвав тишину, отзвенели и затихли.
Матросы собирались кучками, перешептывались; они ждали, как праздничного обеда, как ендову, из которой баталер разливает водку, вечернюю молитву. Все напряженно прислушивались в кубриках к тому, что доносится с верхней палубы; в кают-компании ловили каждый звук, долетавший снизу.
Тревога сгущалась. Кто-то пронюхал, что готовится бунт. Может быть, священник, учуявший недоброе в том, что в кубриках стихло громогласное клокотание? Может быть, кто-нибудь из кондукторов подслушал неосторожные разговоры?
Любомудров явился к Никольскому: не соблаговолит ли командир отправить арестованных на берег? Уж больно неспокойно на корабле, матросы затевают смуту.
— Уповайте на бога, пекитесь о небе, — посоветовал Никольский. — А на корабле я как-нибудь сам решу, что мне делать.
Батюшка, покорно кланяясь, удалился. Вслед за ним направилась к командиру группа офицеров. Взглянув на вестового, поняли: Никольский не в духе. Вестовой стоял у двери бледный, правая щека его дергалась. Обычно он был первым «громоотводом» при вспышках ярости капитана I ранга. И все-таки офицеры вошли к командиру. Он не предложил им сесть и сам выслушал их стоя, обратив глаза куда-то в пространство.
— Так-так, — наконец выдавил Никольский и подошел к иллюминатору. Никто не знал, что он рассматривает сквозь толстое стекло и долго ли придется любоваться его широкой спиной. Нервно сцепленные пальцы выдавали с трудом подавляемое раздражение.
Вероятно, каперанг наблюдал за солдатами приданного батальона, охранявшими заводские ворота, и раздумывал, как быть. Строптивый характер мешал ему согласиться с доводами офицеров: команда крайне возбуждена, стоит ли рисковать из-за каких-то агитаторов? Неровен час — вспыхнет бунт…
Вряд ли Никольский прислушался к мнению подчиненных, вряд ли всерьез отнесся к фразе: «Крейсер не тюрьма, зачем нам арестанты с завода?»
Скорее, его раздумья питало другое: офицеры ропщут, они встревожены. В городе, видно, не все ладно. Из штаба дважды звонили, хотят забрать солдат. Что, если действительно, как ему докладывали, на вечерней молитве вспыхнет бунт? Чем удержать эту дикую ораву?
Никольский резко повернулся:
— Изволите мандражировать, господа офицеры? Слова «тюрьма» испугались, захотели быть чистенькими? В тихой гавани отсидеться? Так я вас понимаю?
Распаляясь, он бросал в лицо офицерам оскорбления и, когда им показалось, что их миссия провалилась, схватил телефонную трубку и приказал командиру батальона прислать караульных и увести арестованных. Командир батальона, очевидно, сетовал: куда, мол, их дену, помещения для арестантов нет.
— Найдете! — отрезал Никольский.
До вечерней молитвы оставалась одна, последняя склянка. Кое-кто вышел на палубу покурить у железной бочки с водой, в которой, шипя, гасли матросские самокрутки. Диденко и Ордин куда-то исчезли. И вдруг пронеслось:
— Глядите! Ведут арестованных!
Через несколько секунд этот возглас достиг самых отдаленных кубриков. Крейсер мгновенно всколыхнулся, ожил, забурлил. Из люков выскакивали матросы, словно их выбрасывал наверх мощный трамплин.
Трое арестованных подходили к трапу. Внизу, у причальной стенки, ожидали их конвоиры — солдаты в серых папахах, построенные в шеренгу. Фельдфебель медленно прохаживался вдоль строя — стоять было холодно.
Матросы, курившие на полубаке возле железной бочки, первыми увидели арестованных. Один из них — худой, с длинной шеей и острым кадыком — шел впереди и был без шапки.
— Ура-а-а! — грянули матросы, грянули без команды, стихийно, в порыве, объединившем разрозненных людей.
— А-а-а-а! — понеслось с носовой части, с юта — отовсюду, где замелькали бескозырки, откуда покатился нарастающий топот десятков, может, сотен бегущих. Вырвавшись из тесноты кубриков, матросы устремились к троим, выведенным из карцера, чтобы подхватить их на руки, чтобы излить свою радость, чтобы дать волю истосковавшейся душе.
Никольский и Огранович появились из-за вахтенной рубки, что-то яростно закричали. В гуле голосов и топоте ног их крик утонул, и только пять — семь матросов, услышав рассвирепевшего каперанга, повернули на голос головы. Никольский замер, словно впаянный в палубу. Вытянутая с револьвером рука подрагивала — он целился; целился и Огранович, напряженно склонив чуть набок жилистую шею.
Машинист Власенко, задержавшийся, увидел, что на него наведен пистолет. Он вздернул руку, прикрывая лицо, словно ладонью можно было заслониться от пули. Дважды или трижды треснули выстрелы.