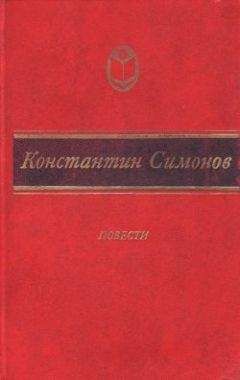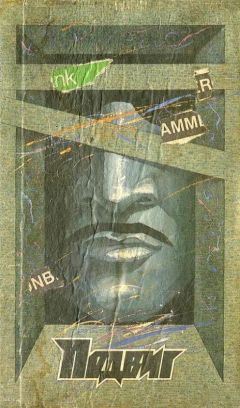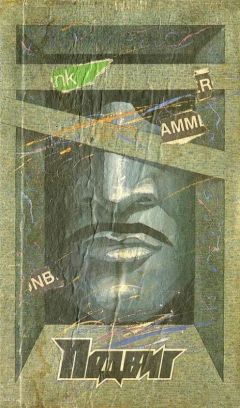Григорий Глазов - Не встретиться, не разминуться
Алеша мог, конечно, позвать ее сейчас на квартиру деда, ключи в кармане. Еще бабушкины: связка на черной тесемочке, два от входной двери, один от подвала. Тоня, пожалуй, пошла бы, видать, не из тех, что строят из себя… Но ему ничего не хотелось, был смят и пристыжен недавней своей истерикой… И эта девчонка существовала для него сейчас, как товарищ оттуда, соратник, «сестричка», для которой он, как и многие, оставался «родненьким»…
И вдруг Тоня сказала:
— Хочешь, пойдем ко мне? Я одна, мама в Юрмале в пансионате.
— А отец?
— У него другая семья, — просто сказала она.
Было около одиннадцати. В листьях каштанов едва слышно зашептал дождь. Подвижный теплый туман оседал на тротуары, окольцевал фонари слипшейся радугой. Пока шли, Алеша решал, как быть, если Тоня предложит остаться. В голове сидела фраза «Я одна». Он представил себе, как будет возиться, снимая и надевая потом протезный ботинок, подпрыгивать на одной ноге, как Тоня станет смотреть на нее, изуродованную, и жалеть — искренне или притворно…
— Устал? — спросила она, когда остановились возле подъезда блочного дома. — Ну что, зайдешь?
— Да нет… Обещал родителям пораньше вернуться.
— На углу возле аптеки поймай такси или левака. Звони, заходи. У нас дома просто и тихо. Познакомлю с мамой. Она у меня спокойная, в мои дела не лезет, и мы дружим. Что расскажу, того ей и хватает. — Тоня дважды повторила номер телефона. — Запомнил?
— Не контуженый.
— И не устраивай больше фейерверки, Силаков. Ладно? — засмеялась она и, оглянувшись уже у раскрытой двери, весело шевельнула пальцами вскинутой руки.
10
Раскалившись за день, степь отталкивала в аспидную южную ночь обезвоженную духоту. Силаков бежал, чувствуя прилипшую к потной ладони деревянную гладь автомата, кое-где пощербленную песчинками и колючками низкорослых жестких кустов. За спиной шуршали шаги остальных. Что-то звякнуло, кто-то споткнулся, упал и, матерясь, тут же вскочил, ойкнув, видимо, подвернул ногу. «Кто же? — гадал на бегу Силаков. — Похоже, Мартович…» Подъем был пологий, длинный, и когда достигли кучи валунов, рухнули под ними, облизывая зачерствевшую сушь губ, стянутую сукровицей на трещинах. Слева сверху, с далекого и невидимого во тьме холма бил крупнокалиберный… «По флангу… Сука… По роте Денисова», — понял Силаков, глядя на длинные нити желтоватых трассеров. Стук пулемета долетал, когда эти светящиеся иглы уже угасали. Силаков лежал за огромным гладким валуном, ощущая на щеке его тепло, скопившееся, казалось, за тысячелетия. Приказано было тут затихнуть и ждать красной ракеты, чтоб ударить сбоку… Выплюнув тягучую слюну, липкой нитью упавшую на подбородок, он потянулся к фляге, обломанный ноготь больно зацепился за нитку на одежде. Силаков оглянулся. Никого… Ни Мартовича, ни остальных… Куда подевались?.. Он один… Стало жутко… Из тьмы вдруг полезли странные звуки: то ли чей-то шепот, то ли шорох ползущего. Никогда он не испытывал такого безнадежного и непоправимого одиночества. Чернота ночи расширяла степь до беспредельности, никаких предметов, чтобы зацепиться глазом и попытаться от них отсчитывать расстояние. Взгляд утопал в темноте еще и потому безмерной, что степь сплошь соединялась с небом, где густой холодной сыпью стыли звезды, до которых миллионы километров. И эта даль делала его ничтожным, беспомощно маленьким существом, как тот скарабей, что ползал днем у его ноги… Силаков заметил, что трассы крупнокалиберного укорачиваются и понял: пулеметчик повел стволом в его сторону. Когда трасса станет совсем короткой, а затем и вовсе превратится в быстро летящую светлую точку, — это конец: ствол там, на невидимом холме будет бить по нему… Куда же девался Мартович?.. И оглянувшись, Силаков вдруг увидел: Мартович, сидя за кустом, громко чавкая, ел сало… Надо встать, дать ему в морду? Приказано же было, чтоб тихо, а он чавкает!.. Но почему так тяжело подняться?.. Пулеметный стук нарастал неотвратимей… Силаков открыл глаза… Стук продолжался и внутри, где толчками дергалось сердце, и раздавался теперь снаружи…
Кто-то стучал в дверь. Весь в поту, ослабевший от терзавшего во сне ужаса, Петр Федорович прохрипел: «Сейчас», вялой рукой проведя по лицу и волосам, с трудом свесил с полки ноги и, забыв о шлепанцах, в носках доплелся до двери, опустил защелку.
Вошел проводник.
— Что это вы средь бела дня запираетесь? Еле достучался, уж пугаться стал: не случилось ли чего…
— Я переодевался, забыл про защелку, заснул, — ответил Петр Федорович.
— Вы же хотели чаю.
— Да, пожалуйста…
В купе было душно. Послеполуденное солнце медленно ползло с подушки на стенку, затем на двери, пока поезд, входя в крутой поворот, втягивался в сосняк. Сосед по купе, еще с утра ушедший к друзьям в другой вагон, так и не появлялся.
Петр Федорович вытер полотенцем потную шею. Сон еще дышал в нем живыми подробностями, был реален, как обычное воспоминание. Даже болел палец с обломанным ногтем, зацепившимся за нитку. Но того пальца, как и той руки, уже давно не было. И восстанавливая сейчас сон, Петр Федорович обнаружил единственную неточность: к тому дню, когда лежали за валунами, сержант Мартович был уже убит. Веселый, добрый, толстогубый полтавчанин, знавший уйму побасенок про сало. Когда у него что-нибудь просили: кусочек ли тряпочки для шомпола, ёршик ли, иглу с ниткой, он щедро давал, но при этом шутил: «Ты как тот солдат, что писал маме: мама, пришлите иголку, а чтоб она не затерялась, воткните в добрый кусок сала…»
Где-то Петр Федорович вычитал, что у памяти якобы три свойства: возвращать время, удерживать его, проникать в будущее. Люди обладают одним из них в надежде не исчезнуть. О войне новые поколения знают много: когда и как началась и чем закончилась; кто с кем воевал; во имя чего кроваво и свирепо дралась каждая из сторон, — есть книги, фильмы, полотна живописи. Но чем была она для каждого, кто прошагал ее по верстам, изведал ее подробности на собственной шкуре? Когда бродя по лесной заснеженной просеке дома отдыха в теплых «саламандрах» и в дубленке, вдыхая процеженный морозом чистый воздух, уловишь, случалось, мутящий запах керосина — где-то низко за спокойными соснами пошел к близкому аэропорту лайнер, — в тебе, и только в тебе возникала другая, твоя просека: в железных кузовах «студебеккеров», изрыгавших в такой же стерильно-морозный воздух вонь сгоревшей солярки, уже четыре часа безостановочно везут вас, окоченевших, как чурки, утративших ощущение собственного мяса на костях. Вы дремлете на скамьях вдоль бортов, а вернее проваливаетесь в полузабытье, безучастные от усталости, скукожившиеся от голода и лютой стужи. За машинами и зачехленными противотанковыми орудиями вьется легкая сухая пурга. Окаменевшие мышцы лица, примерзшие к сапогам и ботинкам давно нестиранные жесткие портянки. Ни ощущений, ни желаний в этой тягучей дремоте под рев дизелей. Даже нет постоянно досаждавшего чувства голода, оно тоже словно выморожено в продутом стужей теле. И только чей-то котелок, привязанный к вещмешку, звякает, ударяясь о железный борт, напоминая, что ты еще жив…
И если через пятьдесят или сколько там лет кто-то, прочитав такое, увидит это, он всего лишь поймет ваши муки, но не ощутит их. Он не вернет, не присвоит себе твое время, у человека этого есть своя стезя в своем времени. И запах керосина, впрыснутый лайнером в неподвижный морозный воздух, ничего, кроме отвращения, у него не вызовет…
Все, что происходило с Петром Федоровичем в той круговерти, — комья мерзлой земли под Великими Луками, бившие по спине, когда, сжавшись, сгибался в момент разрыва снаряда; грязь по колено, когда шли полем под Невелем, засасывавшая сапоги, заляпанные ею руки, лицо, даже заткнутые за пояс полы шинели; разостланный ветром черный дым догоравшей «тридцатьчетверки» около Себежа, летевшие из этого дыма клочья сажи и смешавшиеся запахи раскаленного металла, обгоревшей краски, плавившейся резины, изжарившегося человеческого мяса, — все это оседало почти мгновенно в глубины — в ямы, щели, щелочки памяти, укладывалось слой за слоем, — потому что поверх ложился следующий день подаренной жизни, который начинался чем-то новым, не менее страшным. И никто не знал да и не задумывался, возвратится ли вчерашнее, вспомнится ли, всплывет ли когда-нибудь, ибо думалось назавтра уже о другом: как сберечь две ложки сахара, сперва размокшие, а потом корочкой засохшие на стенках мешочка; что дать в обмен на флягу немецкого рома хмурым нестроевикам из похоронной команды. Но оказалось, все всплывает и душит затем, и сам уже, истязаясь, окликаешь одну подробность за другой, чтобы растравленной душой еще раз жадно испить все это… И чем старше ты, тем старше и слаще это горькое вино воспоминаний, потому что тоскуешь по юности, какой бы она ни была — с утренним ли садом, пробитым полосами солнечного света и наполненным весенними неутешными призывами горлицы или с полуобгрызанным, в табачной пыли, жестко закаменевшим сухарем в кармане шинели…