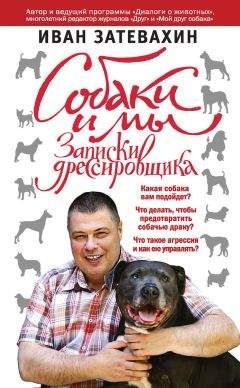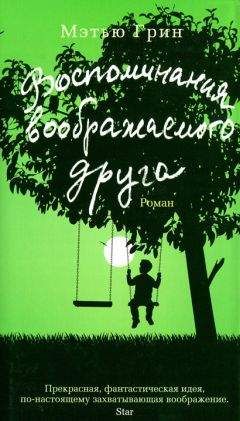Иван Давидков - Прощай, Акрополь!
И тогда, еще сомневаясь, он ли это, и в то же время понимая, что местный пассажир едва ли выгрузит такую гору чемоданов, к нему устремляются встречающие. Слезы, объятия… и начинаются бесконечные рассказы о том, что тетушка еще в 1919 году получила от него открытку с видом Чикаго, которую и хранила до самого смертного часа, что сын старшего брата упал с дерева, сломал ногу и потому не пришел его встречать, а сын сестры — он сейчас служит в гвардейском полку и охраняет царский дворец во Браня — купил участок земли, собираясь построить дом, в этом доме лучшая комната — с широким двойным окном, — разумеется, была бы отведена дорогому гостю, но, увы, на дом не хватило денег…
Он слушает, но не столько рассказы родственников, сколько щебет ласточек и шум тополей, и вытирает слезы (белоснежный платок становится черным — за время долгого путешествия лицо путника покрылось сажей), потом шарит в карманах жилета, раскачивая золотую цепь от часов, опоясывающую чуть ли не половину груди, и дрожащими пальцами кладет в раскрытые ладони ребятишек — в их лицах он все время ищет фамильное сходство — по иностранной монетке, а дети с почтением и страхом целуют ему руку.
Приезд Илии Американца был куда скромнее. Его поезд подошел к станции ненастным утром. Мимо окон, замутненных дождевыми каплями, растворившими в себе густую сажу, проплывали росшие вдоль железнодорожного полотна цветущие персиковые деревья и висящее на веревках белье, которое, если не вглядываться хорошенько, тоже можно было принять за цветущую алычу или абрикосы.
На перроне не было ни души, только дежурный, поблескивая медными пуговицами куртки, подошел к шипящему паровозу и передал машинисту завернутый в газету пакет.
Из зала ожидания вышли двое: мужчина и женщина. Укрывшись пальто, они бегом, спасаясь от дождя, пересекли перрон и поднялись в тот же вагон, из которого вышел приезжий, даже не заметив его. Машинист и кондуктор тоже не обратили на приезжего никакого внимания и пошли завтракать в буфет. До конечной станции оставалось несколько остановок, и им незачем было спешить. Они устроились за столиком возле окна. Скатерть, бог знает с каких пор не стиранная, с красными кругами от рюмок, была усыпана крошками. Они смахнули крошки и склонились над дымящимися тарелками, пар обдавал щеки приятным теплом.
Дверь буфета открылась. Задержавшись на пороге, потому что чемоданы не хотели пролезать в дверной проем, в буфет вошел единственный прибывший этим поездом пассажир — по одежде было видно, что он нездешний. Он направился к столику возле печки, перекинул через спинку стула черный пиджак (его подкладка была в темносерую и серебристую полоску), положил на сиденье шляпу (с широких, по–мексикански загнутых полей стекала вода) и заказал кружку пива. Он ждал, чтобы пена осела, и, не сделав еще ни глотка, вдыхал горьковатый пивной дух, смешанный с едва уловимым запахом шпал и паровозного дыма. Буфетчик, пятидесятилетний мужчина, полжизни проторчавший на этом вокзале и проводивший глазами тысячи поездов, силился вспомнить, кто же этот низкорослый плечистый человек с редкими каштановыми волосами и глазами цвета пива, одетый в полосатые брюки, какие носит только директор гимназии. Он заглядывал в самые дальние закоулки памяти, где хранились образы бесчисленных пассажиров, но все было тщетно. Илия Американец, хорошо зная натуру людей, долго проживших на маленьких станциях, и желая удовлетворить любопытство человека, принесшего ему кружку пива, сказал:
— Не старайтесь, милейший, вам меня все равно не узнать. Я уехал отсюда давно, еще мальчуганом, а теперь вот… сами видите… — И он указал на поредевшие волосы. — Послал телеграмму, чтоб встретили, но никто не пришел. Может, не дошла, а может, и получать некому…
А дождь все лил и лил. Слышался монотонный шум воды, плещущей на каменные плиты перрона, смешанный со свистом пара, струей ударявшего в паровозные колеса.
Машинист и кондуктор доели завтрак, положили ложки на жирные края тарелок и пошли к составу, щурясь от холодного прикосновения дождя.
После полудня, едва кончился дождь, Илия Американец нанял на маленькой привокзальной площади фаэтон и, втиснувшись между двумя стоящими на сиденье чемоданами, пустился в путь. Глаза его — перед ними, все время покачиваясь, маячила сплющенная кепка возчика — наполнились мокрой зеленью озимей, врезающихся в серые склоны холмов. Он услышал голос сойки — сначала голос раздавался откуда–то из–за поворота, где виднелась железная дорога, потом отозвался с другой стороны, снизу, от речного брода, где лежали круглые, как яйца, валуны. Копыта лошади, стуча по каменистой дороге, пытались прогнать сойку, но ее голосистая песня, такая же пестроперая, как сама птичка, носилась в небе, отголосками наполняла долину, и путник улыбался, потому что это была его первая встреча с родиной после долгой разлуки…
Глядя на нищий горный край, он думал: что же так властно тянуло его сюда в годы странствий? Не этот ли шелест старых дуплистых ив, склоненных к реке, слышал он в долгие бессонные ночи? Или то был сухой шорох травы на могиле матери, в самом конце кладбища, где начинаются виноградники? Раньше, в пору его детства, там была известковая печь, и кресты заметало белой пылью, клубившейся над проезжающими телегами.
Покачиваясь в фаэтоне — колеса разрезали зеркальные поверхности луж, — он думал и о том, что приобретает человек за годы дальних странствий. Деньги, имущество, почет?.. Деньги утекают сквозь пальцы, имущество и почет тоже ускользают из рук, и остается лишь воспоминание о пережитом — самое большое богатство в человеческой жизни. И еще остается непреодолимое желание возвратиться туда, где ты впервые увидел солнце в окно отчего дома (вот оно озарило стену, и твоя тень легла на портрет девушки с длинными косами — неужели покойная мать была такой молодой!). Разум старается подавить это желание. Ведь человек может быть счастлив всюду, были б только крыша над головой да кусок хлеба! Но бессонница, принесшая вдруг из–за океана запах теплого, только что испеченного деревенского хлеба и шуршание гусиного пера, сметающего пепел и угольки с румяной корочки, делает твою постель жесткой, а кусок хлеба после таких ночей горьким, и зеркальные витрины магазинов в чужих городах отражают написанную на твоем лице молчаливую муку.
И вот ты отправляешься в путь. У ног твоих стоят чемоданы, а пароходный дым заволакивает блеск и сутолоку покидаемого города. Город поворачивается, чтобы ты мог рассмотреть его со всех сторон и навсегда запомнить, потому как ты никогда уже больше сюда не вернешься. Куда увозит тебя пароход? К новой бедности? К радостям? Или, может быть, к страданиям, которые вопреки твоей воле будут тянуть тебя на улицы этого покинутого тобой города, и ты будешь искать ненадежную защиту у воспоминаний? Все равно! Там, в необъятной дали, родимое небо, звездам которого ты будешь улыбаться. Там старое кладбище, а в конце его, где начинаются виноградники, известковая печь, белая пыль которой запорошит когда–нибудь — дай бог, чтобы помедлил этот горький час, — и твое уставшее сердце.
* * *Больше месяца в селе только и было разговоров, что об Американце. Одни говорили, что он привез кучу денег и теперь откроет в городе мануфактурную лавку. Попивая кофе в тенечке, будет до конца жизни торговать сатином и ситцем, как известный всем Буко Эшкинази, который всегда прикладывает к купленному ситцу несколько булавочек с цветными фарфоровыми головками. Женщины особенно радовались этим булавкам и в праздник прикалывали их к головным платкам. Другие уверяли, что Американец прожил все состояние и вернулся в село, боясь подохнуть с голоду где–нибудь под американским мостом или в зале ожидания какого–нибудь американского вокзала.
Он никому не рассказывал о своей жизни. Даже Савестии, двадцатипятилетней девушке, согласившейся выйти за него, уже перешагнувшего за сорок (то ли она боялась остаться в девках, то ли соблазнилась слухами о его богатстве), он ничего не говорил. Но по вечерам Американец задергивал занавеску на окне, выходящем на улицу, и заводил граммофон, прибывший по почте из далекого штата Огайо (граммофон этот был старой рухлядью, диск, оклеенный черным бархатом, скрипел, а огромная, как у тубы, труба качалась). Растроганный мелодией старого фокстрота, он брал жену за талию и учил ее танцевать, а сам что–то напевал — что, Савестия, ритмично подталкиваемая его руками, никак не могла разобрать.
В этой мелодии шелестели пыльной листвой деревья, росшие на улицах далекого города, называемого Кливлендом. Там он работал на фабрике игрушек. По утрам ездил на работу, окруженный дымом собственной сигареты и грохотом вагона. Целый день перед его глазами вываливались из черной формы розовые целлулоидные скорлупки, они скрипели и прогибались в его руках, когда он резинкой прикреплял к гладкому тельцу куклы руки и ноги или приклеивал к головке длинные шелковистые кудри. Спать он возвращался в барак для эмигрантов, на берег реки Святого — Лаврентия (в эту реку выходили городские стоки, и она невероятно воняла, особенно в летние вечера). Всю ночь ему снились куклы, они появлялись на цыпочках, как балерины. А утром на него снова давил низкий потолок фабрики, к которому поднимался ядовитый запах ацетона.