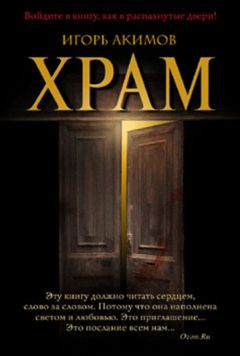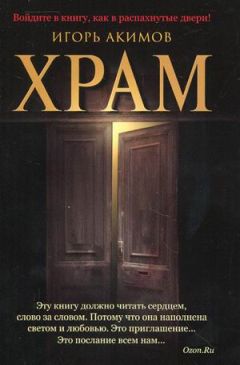Федор Сухов - Хождение по своим ранам
5
Братцы! Выслушайте меня…
Нет страшнее, нет позорнее обвинения, чем то, которое мне предъявлено. Обвинение предъявлено от имени Родины, которой я дал торжественную клятву быть достойным ее сыном. Значит, я клятвоотступник, я потерял самого себя, свой человеческий облик. Было бы дерзко с моей стороны просить прощения, к тому же Родина не учила меня унижаться, и все же я воспользуюсь правом последнего слова, это право завоевано мной хотя бы тем, что я лицом к лицу встречался с заклятым врагом моей Родины. Я виноват, что отступил, но я не виноват, что враг оказался сильнее меня.
Повторяю, я не намерен просить прощения, я не рассчитываю ни на какое снисхождение, одно тревожит меня — я упаду от пули, отлитой, может быть, рукой моей первой и последней любви, — девочка, к которой я был неравнодушен, как и многие наши вчерашние школьницы, работает на одном из наших оборонных заводов. Возможно, она поверит в то, что я оказался трусом, паникером… Но есть на свете человек, который никогда не сможет поверить, что я стал клятвоотступником…
Бедная моя мать, может, услышит она мое последнее дыхание, не поверит она, что я — ее единственный сын — потерял себя.
Ради утешения наших матерей я попытаюсь восстановить действительную картину так жестоко проигранного боя.
Что значит стрелковый взвод, да и то неполного состава, всего-навсего восемнадцать штыков? Ничего не значит. И этому-то взводу было приказано занять оборону на западном склоне высоты, непосредственно прилегающей к переднему краю противника. Ставилась вполне ясная и четкая задача: удержать означенную высоту до подхода более мощных подразделений. Взводу придавался станковый пулемет, но без прислуги. Спешно был сформирован пулеметный расчет, я стал его первым номером. Попутно должен сказать: я кончил авиационное училище и пехотинцем стал действительно в силу неудачно сложившихся обстоятельств. А может, по другой, неведомой мне причине: рожденный ползать — летать не может…
Я пополз к своей, бугрящейся вывернутым нутром, лишенной какой-либо жизни, давно убитой высоте. Не думаю, что немцы заметили меня и предводимый мною взвод — они били по пристрелянным рубежам, а пристреляли они каждый бугорок, каждую травинку. Я довольно сносно научился различать по полету калибр мин и снарядов, и на этот раз немцы почему-то не скупились на снаряды и мины крупного калибра. Свежие, чуть не в метр глубиной воронки, естественно, в какой-то мере облегчали нашу участь, но слишком велик был соблазн их спасительной глубины, поэтому мы прятали свои головы в мелких, как от дождинок, выбоинах.
Не знаю, кто сказал, но сказал кто-то из великих и мудрых людей, что если б человек ведал, что его ждет впереди, он не мог бы жить. Мысль в основе своей далеко не оптимистическая и все-таки она верная, все мы живем надеждами, часто призрачными, несбыточными, и, что удивительно, даже тогда, когда не остается никаких надежд, мы продолжаем обманывать себя, ждем чуда, и чудо иногда снисходит до нас — не задетые ни одним осколком, мы добрались до упомянутой безымянной высоты. Установили пулемет, расчистили стрелковые ячейки, приготовили гранаты, ручные и противотанковые. И представьте себе, я даже письмо написал, написал той девочке, к которой был неравнодушен. В письме, конечно, не было и намека на место моего пребывания, по нему и не определишь, в какое время года оно писалось. Думаю, не открою военной тайны, ежели скажу, что писалось оно летом, в июле, а какого числа, не помню, вернее, я и не знал тогда, какое было число, какой день.
Помню только, день этот как и все окопные дни, тянулся бесконечно длинно. И как я обрадовался, когда увидел, что стоящее над моей головой, зияющее, как слепая рана, кроваво-красное солнце стало снижаться. Сразу захотелось, чтоб скорее пришла ночь единственная отрада переднего края, его стрелковых ячеек. Но до ночи было все еще далеко, стоял как раз такой час, когда немцы могли возобновить атаку со своего задонского предмостного плацдарма. Метров двести обугленной земли отделяло нас от нацеленных в наши души скорострельных вражеских пулеметов и винтовок. На этой убитой земле лежали кто с закинутыми на затылок руками, кто все еще с бегущими, подогнутыми в коленях ногами, в большинстве своем молодые, может быть, моего возраста бойцы. Их убило в нашей недавней контратаке.
Один из них лежал невдалеке от моего окопа, лежал весь на виду в кирзовых — с вытертыми, как мешковина, голенищами, — больших, явно не по ноге, сапогах. Я, может быть, не обратил бы внимания на них, если б сам был в таких же сапогах, но я был в ботинках, что не могло не унижать моего лейтенантского достоинства. Мальчишка, сопляк, я еще мог думать о каком-то достоинстве. И все-таки, поверьте мне, ноги мои долго тосковали о соответствующей моему недавнему званию обуви. Тосковали и плечи, они мечтали о портупее, о перекрещенных за спиною ремнях. Я изредка поглядывал на утыканные резиновыми пробками подошвы сапог, но видел не одни подошвы, руки видел, сначала лилово-багровые, потом черные, с растопыренными, как бы окунутыми в смолу пальцами. И лицо черное, начинающее вскипать черными пузырями. И только волосы соломенно золотились и шевелились, когда пролетали, разрываясь за нашей спиной, тяжелые снаряды.
Чтобы как-то скоротать время, я опять потянулся к карандашу, вынул из полевой сумки полевую книжку. На предназначенном для боевого донесения листке я набросал какой-то рисунок, нечто похожее на одиноко сидящего в неглубоком окопчике бойца, и чудно получилось: боец походил на меня, я увидел себя, но не как в зеркале, а так, как видишь себя изнутри, из самого же себя, видишь своими ощущениями. И вдруг мне стало жутко: карандашные штрихи слились в сплошное черное пятно, я вырвал листок, смял его и бросил за бруствер, потом спохватился — листок мог привлечь внимание немцев, поднялся, хотел было глянуть на выброшенную бумажку, но увидел угольно-затемненное солнце, оно было так близко, что я оторопел и не сразу догадался, что увидел все то же вскипающее черными пузырями, убитое человеческое лицо. Оно чернело на фоне недалекого, ранее не замеченного мной Дона. Как лезвием старой казацкой шашки, полоснул меня поникший, исподлобья глянувший, сурово насупленный Дон.
Возможно, затаил полоненный Дон горькую обиду и не только на меня, но и на зазелененную звездочку на моей вымокшей в поту хлопчатобумажной пилотке. Да и не затаил, все сильнее, все заметнее темнел он этой обидой.
Я вроде бы отвлекся от конкретной, траншейно-окопной обстановки, забыл про свою высоту. Она все чаще и чаще фонтанилась потревоженной снарядами и минами песчаной встающей на дыбы землей. Снаряды рвались так близко и так громобойно, что я забеспокоился, на меня накатывался тот девятый вал, который я должен был сдержать при помощи, в сущности, одного пулеметного щитка. И тогда-то я вспомнил, что есть возле меня восемнадцать живых душ, восемнадцать штыков, вспомнил не потому, что эти души, эти штыки помогут мне сдержать накатывающийся вал, но потому, что моя душа всей кровью тосковала о другой душе…
Деревья и те страшатся одиночества, они тянутся друг к другу.
Я и фамилии-то его не успел запомнить, различал среди других по лицу, по яблочно закругленной нижней губе, по бровям, смело летящим навстречь горячо дующему ветру; он, недавней, первой военной весны призывник, он потянулся, он выскочил из своей стрелковой ячейки, хотел было добежать до моего окопчика и — не добежал.
Хрястнул, черно дымясь, крупного калибра фугасный снаряд, осыпал мою спину выхваченным из глубины земли высоко вскинутым песком. Я долго не мог понять, что со мной: жив я или не жив? По звону в ушах догадался, что я живой, но, подняв голову, не увидел летящих ко мне, издалека приметных бровей. Думалось, они припали к глубоко развороченной земле, думалось, они опять поднимутся… По случайно увиденной, все еще хранящей хлопчатобумажную зеленцу пилотке я понял, что они уже никогда не поднимутся. Осталась от человека одна пилотка. И мне сызнова привиделось солнечное затмение, и, что странно, хлопчатобумажная зеленца стала походить на обыкновенную траву-мураву.
— Товарищ лейтенант, танки! — крикнул, а кто крикнул, я не знал, наверно, сама земля крикнула… Значит, она живая, не убитая, она зеленеет травой-муравой…
Танки шли прямо на нас, прямо на нашу высоту, шли не торопясь, с короткими остановками, с наведенными на наши души тупыми, как самоварные трубы, стволами. Сначала они не показались такими страшными, какими я их представлял по рассказам тех, кто с ними встречался, кто слышал железно стелящийся лязг их громыхающих гусениц. Отдаленно они походили на выползающих после дождя лягушек. Да, да, на обыкновенных безобидных лягушек. Эта похожесть усиливалась камуфляжной лягушечьей окраской лобовой и боковой брони, медлительностью движения и — самое главное — моим мальчишечьим восприятием, щедрым на всякие сверхъестественные сравнения. Правда, такое восприятие было непродолжительным и все же оно сыграло, если можно так выразиться, некую положительную роль: я не растерялся, я наяву увидел, что не так страшен черт, как его малюют.