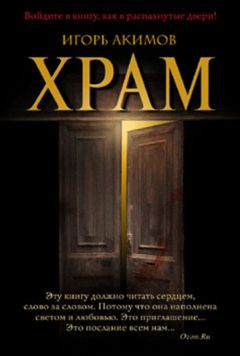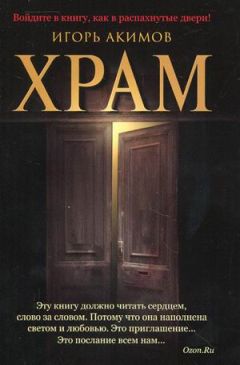Федор Сухов - Хождение по своим ранам
Спал я так крепко, что связной командира роты долго не мог меня разбудить. А когда я открыл глаза, он запыхавшейся скороговоркой пробалакал:
— Товарищ лейтенант, швыдко до командира роты!
Связной, придерживая сумку противогаза, во весь рост, демаскируя (к великому удивлению Тютюнника) так тщательно укрытые позиции, вприскок побежал по стряхнувшему утреннюю дремоту, чутко настороженному полю и скрылся в мыске притихшего леса.
Лейтенант Шульгин, выслушав доклад о моем прибытии, демонстративно, уже при прибывшем Ваняхине и при командире 3-го взвода младшем лейтенанте Заруцком, достал из полевой сумки карманное зеркальце и подал его мне.
— Погляди на себя.
Давно я не глядел на самого себя. Я даже рад был, что наконец-то меня никто не упрекает за мой внешний вид, за неподшитый воротничок, за незастегнутую пуговицу. Но командир роты обратил внимание не на пуговицы, его устрашила моя физиономия. Я сам устрашился, когда лицом к лицу встретился с самим собой. Я не узнал себя, на меня смотрел какой-то колодезник, весь заляпанный жирным воронежским черноземом. Стало как-то неловко перед своими товарищами. Я тут же окунулся в увешанную каплями росы, непримятую траву. А командир роты приказал своему связному вынести котелок воды и розовый голыш туалетного мыла. К мылу я не прикоснулся, не прикоснулся бы и к воде (ведь вода-то нужна для питья), но связной сказал, что он нашел потайную криницу и что теперь можно умываться не каплями росы, а жменями криничной водицы. Я припал к ней губами, вбирал в рот и тонкой струйкой выпускал в смеженные ковшом ладони. Во рту приятно холодило, отдавало переспелой земляникой, и я чувствовал, как начинали рдеть, землянично наливаться мои щеки. А когда утерся (листком конского щавеля), глянул на грустно-притихшего Ваняхина, он понял мой взгляд и взмахом руки дал понять: дескать, ладно, сойдет, не к теще в гости приехали…
Я застегнул на все пуговицы воротник гимнастерки, потуже подтянул ремень и был готов доложить командиру роты о своем, приведенном в надлежащий порядок внешнем, виде, но лейтенант Шульгин даже не глянул на меня, прошел мимо, потом кивком головы позвал нас за собой в глубь леса, что просеивал сквозь трепетную листву еще не так высоко взошедшее солнце.
Дорогой я спросил Ваняхина, куда мы идем?
— В штаб батальона, — ответил Ваняхин. Он наклонился, сорвал из-под ног травинку и сунул ее в рот.
Я тоже сорвал, но не травинку, а листок орешника, приложил его к губам прохладно-матерчатой, шершавой изнанкой и со всей силой дунул, лист лопнул, лопнул без хлопка, и это меня удивило, не получилось того эффекта, который так ловко получался в детстве. Значит, я уже далек от мальчишечьих забав, и все же меня так и подмывало прильнуть щекой к тоненько поющей шелушащейся тонкой кожицей березе.
Мне не было ведомо, под какой березой, а может быть, осиной окопался штаб батальона, не было ведомо, по какому поводу, по какой нужде мы шли в этот штаб. Я не пытался разгадать столь важную военную тайну, я был удивлен таинственной немотой всегда о чем-то разговаривающего леса. Только тихое, едва уловимое пенье шелушащейся березы. Хоть кукушка бы закуковала, впрочем, она уже откуковала, эта вещая, неизвестно куда улетевшая птица,
Вдруг под ноги Ваняхину, трепеща едва оперенными крылышками, кинулся выпавший из дупла коряжистой ветлы неразумный птенчик, наверно, дрозденок. Ваняхин сгреб его в свои ладони, потом приподнял и стал кормить изо рта разжеванной травинкой…
— Смирно! Товарищ старший политрук, командный состав второй роты прибыл по вашему приказанию.
Лейтенант Шульгин не растерялся, он первый заметил трудно сказать откуда появившегося комиссара батальона. Все замерли, и только Ваняхин все устраивал в своей полевой сумке завернутого в кленовые листья дрозденка.
Возле глубоко отрытого и многонакатно накрытого штабного блиндажа я увидел почти всех командиров, хорошо знакомых мне по Новоузенску, по Курдюму: командира 1-й роты Терехова, командира 3-й роты Полянского, командиров взводов Аблова, Захарова, Русовца…
Старший политрук Салахутдинов все время поглядывал на блиндаж, из него должно было выйти более высокое начальство. Снова раздалась команда «смирно», но ее приглушил взмах красно окантованной, интеллигентно белой руки. Эта рука пожала руки всех без исключения лейтенантов и младших лейтенантов.
— Кто это?
— Комиссар бригады, — подсказал мне младший лейтенант Ваняхин.
Комиссар первым присел возле комля старой свилеватой березы. Похоже было, что нам предстоит выслушать политинформацию. Кстати говоря, мы уже несколько дней не читали газет, смутно знали, что происходит на фронте.
— Товарищи, — мягким, доверительным голосом начал свое выступление старший батальонный комиссар, — нами получен особо важный приказ народного комиссара обороны № 227. Приказ этот продиктован исключительно серьезной обстановкой, которая сложилась в результате наступления немецко-фашистских войск на юго-западном направлении, в том числе и в районе Воронежа. Вам, вероятно, известно: большая часть Воронежа находится в руках противника…
И как бы в подтверждение своих слов комиссар бригады стал зачитывать приказ.
«Пора кончать отступление, ни шагу назад. Таким теперь должен быть наш главный призыв. Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности…»
Дальше в приказе говорилось, что когда немцы дрогнули и начали отступать под Москвой, верховное командование немецких войск создало штрафные роты и батальоны, куда направляли провинившихся солдат и офицеров.
Приказ констатировал, что наши предки не брезговали учиться у противника, не пора ли и нам поучиться у него, потому что речь идет о том, быть или не быть нашему государству.
Комиссар бригады глянул на рядом сидящего Салахутдинова, думая, что он что-нибудь скажет, но Салахутдинов, так любивший говорить, ничего не мог сказать. Старшего политрука особенно поразило то место приказа, где призывалось поучиться у немцев, ведь он всегда с презрением говорил о разных фрицах и гансах, которым давно бы пришел капут, если б союзники поторопились с открытием второго фронта…
А мне было горько и обидно до слез, что в приказе признавался тот факт, что семьдесят миллионов советских людей находятся в фашистском плену, что враг захватил половину промышленных и сырьевых ресурсов Советского Союза, что нависла реальная угроза захвата среднего и нижнего течения Дона.
О Руская земле! уже за шеломянем еси!
4
Я поднял глаза, взглянул на небо, оно потемнело, как перед дождем, да и лес как будто потемнел, на березах четче обозначились черные пятна, а просеянное сквозь листву солнце затенялось зарослями бересклета, кустами веревочно вьющейся бузины.
Мне думалось: все мы сразу же, согласно только что прочитанному приказу, вернемся на свои позиции, но из блиндажа выскочил старший лейтенант (не знаю, кто он был по должности) и сказал, что командиры взводов задерживаются и передаются в его распоряжение. Таким образом нам, взводным командирам, представлялась возможность быть свидетелями исполнения одного из пунктов продиктованного угрожающе сложившейся обстановкой неотвратимого приказа.
Я запомнил фамилию того, кто проявил трусость, запомнил звание — лейтенант Гривцов. Лейтенант Гривцов, так же, как и я, был командиром взвода, только не противотанкового, а пехотного. Лейтенант Гривцов без приказа оставил занимаемые позиции в районе села Подклетного. В результате подставил под удар превосходящих сил противника своих же товарищей.
Все это я услышал из уст человека, зашлеенного блистающими ремнями, обутого в хромовые, до зеркального блеска начищенные сапоги. Жалко, нет лейтенанта Шульгина, он бы позавидовал этим сапогам, их расплывшемуся во все голенища блеску.
— Принимая во внимание исключительную важность создавшегося момента и руководствуясь приказом народного комиссара обороны, лишить звания лейтенанта командира стрелкового взвода…
— В штрафной направят, — успел проговорить стоящий возле меня белозубо-ощерившийся лейтенант Захаров.
— …и приговорить к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор обжалованию не подлежит.
Лейтенант Гривцов, так же, как и я, вступил в свое двадцатое лето, но через несколько минут пущенная в затылок пуля навсегда охолодит его двадцатый июль. Напишут отцу и матери, что их сын погиб как жалкий трус. И нет, никогда не будет никакого оправдания. Жестоки железные параграфы трибунала и все-таки они дают право на последнее слово. Приговоренный к высшей мере наказания не произнес это слово, но вынашивал его несколько дней, оно складывалось под давлением тяжелой обиды на самого себя, на то, что он не погиб от немецкой пули…