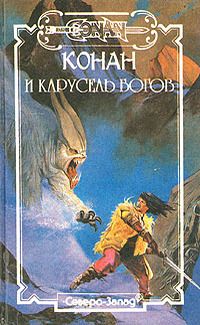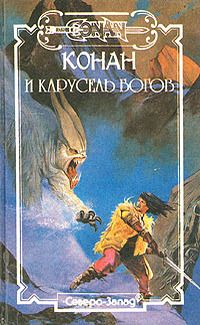Василий Афонин - Вечера
Сидя на берегу Ушайки, я вспоминал Шегарку, речку, на которой родился, — Шегарку с ее берегами, правым — высоким и низким — левым, ее повороты, неторопливое течение к Оби, ее омуты, перешейки, плесы и заливы. Сидя вечерами на бугре, глядя на освещенные окна деревянных домов за Ушайкой, я вспоминал родную деревню Жирновку и старался представить всю ее так, как запомнилась мне она в последний приезд: избы по берегам и дальше к лесу, бани, скотные дворы, огороды. Я видел родительскую избу, поленницу, двор, огород с цветущими подсолнухами, стариков в ограде, сидящих на крыльце в тихий час заката. Возле изб, в переулках видел своих деревенских, не только тех, кто еще оставался в деревне, всех, кого помнил. Переходя от Ушайки поляну, где видны были чьи-то прокосы, я вспомнил свой сенокос, прямо возле дороги, идущей правобережьем Шегарки от деревни на Косари. Успокоясь, возвращался домой в свою городскую квартиру…
Когда я обошел рощу полностью, избродил из конца в конец, открыл, узнал все уголки, то выбрал себе постоянное место для отдыха. Место — под широким таловым кустом, на краю самой большой поляны, неподалеку от родничка. На родничок наткнулся я случайно: скрытый травой, вытекал он из-под бугра, желоб был подведен под него, старый-престарый замшелый желоб из трех досок. Вода, стекая с желоба, падая с двадцатисантиметровой высоты, вымыла в супесчаной почве углубление, крошечный омуток, на дне которого кружились песчинки. Из омутка вытекал тонюсенький ручеек и тут же терялся в траве, густой и высокой, как и всегда возле воды. Можно было подставить под струйку посудину или сложенные ковшиком ладони, а лучше всего — лечь возле родничка, опираясь на расставленные руки, наклониться над омутком и, ощущая вздрагивающими ноздрями пресноту травы, земли, разбухших от влаги досок желоба, коснуться губами стылой, чистейшей родниковой воды и попить, передыхая, вволю.
На поляне, где под кустом у родника было мое место, примечал я, кто-то постоянно косил. Не заготавливал на зиму сено, как это обычно делается в деревнях: косят траву, дают рядам просохнуть, переворачивая ряды граблями дня через три-четыре, смотря по погоде, чтобы каждая сторона подсохла, потом сгребают ряды, копнят, дают копнам выстоять, а уж потом мечут в стога. Нет, не так. Хотя на этой только поляне, если бы не вытаптывали траву, из года в год можно было бы ставить стог центнеров двадцати с лишним. Трава добрая: пырей с клевером, вязель…
Не видимый мною косец, косивший, судя по всему, рано по утрам, прогонит несколько небольших прокосов, соберет траву и уйдет. Держал он, как я догадывался, козу или кроликов, скорее всего — кроликов, и уж никак не корову, потому что, живя почти в центре такого города, трудно держать корову или козу, ездить же с окраины в рощу подкашивать — тоже не с руки, лучше тогда выгонять или выводить скот пастись на окраину. Так я думал…
И мне страсть как хотелось покосить: на восходе, пока трава в росе, сняв рубашку, пройти несколько прогонов. Да если еще литовка хорошая, то есть правильно насажена, умело отбита и наточена, да по руке литовка — не чувствуешь тогда, как руки сами отмеряют взмахи. На Шегарке, в своей деревне, лет пять назад, пока Жирновка не разбрелась и родители не перебрались в районное село, держали мы корову и овец, пускали в зиму теленка, на всех них с октября по май надо было запастись сеном, и, как правило, сенокосом каждое лето занимался я. Из всех сельских работ, знакомых с малых лет, любил я более всего сенокос. И когда увидел, что кто-то косит на поляне в роще, разволновался, стал вспоминать свой сенокос, стал приходить на поляну чаще, чтобы застать косца, и все не удавалось застать…
Однажды сидел я в глубине рощи на том самом месте, где стоял когда-то купеческий дом, вдруг — в роще тихо — слышу: доходят сквозь деревья такие знакомые звуки — звук точильного бруска по полотну косы. Я, торопясь, вышел на край бугра. Смотрю: под бугром, на поляне, недалеко от родника, стоит телега, распряженный вороной конь, привязанный на всю длину вожжей за колесо, пасется тут же, а возле телеги цыган точит литовку. Точил он литовку по всем правилам, и уже по одному этому было ясно, что цыган — человек хозяйственный и понимает толк в косьбе…
Опустившись на правое колено, установив литовку носком в землю, пропустив держак под мышкой левой руки, пальцами этой руки крепко взяв литовку за обух, сгорбясь чуток, бруском, схваченным правой цепко и бережно, он длинными движениями от пятки до носка продрал литовочное полотно, снимая с лезвия невидимые зазубрины, потом короткими сильными движениями точил лезвие, прогнав брусок с двух сторон, и опять длинными движениями бруска навел жало…
Я сбежал с бугра к телеге, поздоровался. Цыган приподнялся с колена, сунул брусок за голенище высокого хромового сапога, внимательно посмотрел на меня и степенно ответил на приветствие, улыбнувшись, показав из черной бороды белые как кипень молодые зубы. Я рассматривал цыгана. Это был статный худощавый, выше среднего роста, лет сорока пяти человек. И одет он был красочно, и одежда сидела на нем ловко и подбористо. Бархатный темно-малиновый берет его слегка был сдвинут на сторону, на красную, стираную, но крепкую рубаху надета была легкая зеленая, расстегнутая безрукавка, широкие, потертые на коленях плисовые штаны, схваченные в поясе узорчатым ремнем, заправлены в голенища сапог. Был август, пасмурный день в облаках, и цыгану, видно, не жарко было в этой одежде. Да и работать он не начинал еще. На среднем пальце правой руки цыгана заметил я тусклое оловянное колечко…
Давно, когда мне не было и двадцати, я бредил цыганами. Читал о них, что попадало под руку, слушал пластинки с записями цыганских песен, ходил на базары смотреть, как гадают цыганки, а потом, бросив дела, поехал через всю страну в Молдавию с единственной целью найти цыганский табор, пристать к цыганам и жить с ними, носить пеструю их одежду, плясать, петь, играть на гитаре, бродить за кибитками по Молдавии и спать прямо на земле, под телегой или возле костра. Ничего из этого не получилось. В Молдавию я не попал, оказался в южном портовом городе, где и прожил целых десять лет. Так и не привелось мне ни дня побыть в цыганском таборе, поговорить с цыганами, послушать истории из кочевой жизни, узнать быт. Повзрослевшему, мне было уже не до кибиток и костров, а цыганки, пристающие с гаданием в людных местах, с некоторых пор вызывали раздражение. И вот теперь передо мной стоял самый что ни на есть настоящий цыган, с конем, телегой, одетый так, что ничего другого и придумать нельзя. Мы смотрели друг на друга, молчали.
— Косите? — кивнул я на литовку, на держак которой, стоя ко мне лицом, цыган слегка опирался. — Это ваша кошенина? Можно попробовать? Вы что, кроликов держите?..
— Коня держу, — сказал цыган. — А сумеешь? — вежливо спросил он, подавая косу. Я прикинул косу, она оказалась впору, может, ручка немного была низковата. Я отступил от телеги, примерился, сделал закос и погнал ряд краем поляны, держа направление на куст, укладывая валок на выкошенное раньше место. Я взмок, пока довел ряд до куста, оглянулся — прокос был не очень хорош, я это спиной чувствовал. Я давно не косил, не привык к литовке, а к ней непременно нужно привыкнуть, чтобы понимать ее, да еще торопился — мне хотелось показать цыгану, как кошу. Опустив литовку лезвием вниз, держа ее посредине в полуопущенной руке, я возвращался к телеге…
— А славно косишь, ей-богу, славно, — похвалил меня цыган, белея смоченными слюной зубами. — Только спешишь, аж ноги заплетаются. На третьем ряду упадешь и не встанешь, — он засмеялся. — Ты ногами ровно ступай, а косу не сдерживай, назад отмах давай до отказа. Гони второй! Ну-ка!..
Это цыган говорил мне, начавшему косить в четырнадцать лет! Скинув прямо на кошенину рубаху, промолчав, закосил я второй ряд и пошел куда увереннее, спокойно дыша, свободно и размеренно пуская косу, захватывая травы столько, сколько нужно, ровно укладывая валок, как косил когда-то на своем сенокосе. Цыган от телеги наблюдал за мной. Я сделал четыре прокоса, потом он взял литовку и тоже сделал четыре прокоса. Косил цыган хорошо, легко, без напряжения. Прокос он брал уже, чем я, но срез у него был чище и ниже, литовка слушалась его лучше…
— А хватит, однако, — сказал цыган, махнув рукой, — а то на воз не укладешь. И веревку не захватил я — увязать. Да и не к чему много, не съест конь. А не просуши — сгорит…
Цыган взял с телеги вилы-тройчатки с коротким чернем и стал собирать, укладывать траву на воз. Движения цыгана были ловкие и точные, воз он разложил правильно, я помогал ему — руками подносил траву. Потом мы сходили к роднику, попили по очереди и легли возле телеги отдохнуть. Отфыркиваясь, звякая удилами, конь подошел к телеге, стал есть с воза, осторожно захватывая траву губами, выбирая помельче с клевером, роняя траву под переступающие ноги.