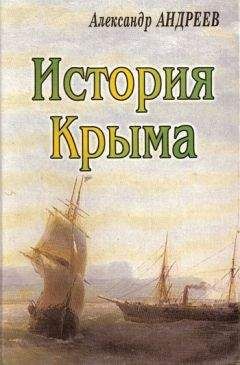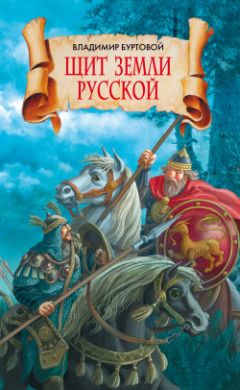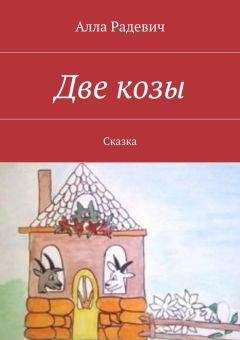Владимир Барвенко - Утро чудес
— Слышишь меня, Аня? Ты не спишь? — опять голос отца.
— Не сплю, Павел, какой сон?
— Если бы все можно было повернуть назад…
— Знаешь, Павел, я много тогда передумала. Мы, женщины, долго можем терпеть, но не прощать. Даже если бы ты тогда сразу вернулся от нее, ничего бы у нас не вышло. Ты сделал тогда выбор, и я по-своему тоже. Такая правда, Павел…
Глава двенадцатая
После отъезда отца я взялся за картину. Мама таки показала ему мою «Ночную купальщицу». Картина отцу понравилась, и эта его похвала, конечно, сдобренная еще мамиными восторгами, стимулировала меня.
В библиотеке мне с огромным трудом нашли Ренуара. «Купальщицы», откровенно говоря, задели мое самолюбие, и я наивно полагал, что смогу так. Но все оказалось гораздо сложнее. Я вдруг обнаружил в своей картине серьезные недостатки и принялся их устранять с отчаянным упорством, порой остро чувствуя, что «Купальщица» уводит меня от первоначального замысла и я что-то безнадежно теряю. А что именно — бог весть.
Я писал картину исступленно, на втором дыхании, и мне верилось, что конец уже близок: вот-вот, еще один мазок… Но наступила зима, в школе началась подготовка к новогоднему балу, и меня опять завалили работой. Пришлось «Купальщицу» отложить.
…На каток я хожу с Гальцевой. Чаще всего вечером после школы. Вечером кататься лучше. Из колокольчика-репродуктора льется музыка. Беговая дорожка ярко освещена прожекторами.
А в конце февраля вдруг выяснилось, что за Гальцевой ухлестывает тип из горного техникума. Их видели вместе. Его звали Стас. Иванцов или Иванков, какая, впрочем, разница.
«Ничего, она еще пожалеет», — утешал я себя какой-то смутной мыслью о своем великом предназначении. Почему-то всегда в своих неудачах я искал спасение в том необыкновенном будущем, которое ждало меня. Я шагал в него смело, минуя годы, и видел себя знаменитым человеком.
Я долго бродил тогда по вечернему городу…
Домой пришел совершенно разбитый. У нашего подъезда стояла толпа людей. Много старушек. Одна из них о чем-то рассказывала ворчливым голосом. До меня донеслось: «Не хворый помер. Не прогневил бога. За все муки его господь тихонько-то и прибрал».
И вдруг в этой толпе я увидел маму. Что она там делает? Мама терпеть не могла пустословить с соседями у подъезда. Я тронул ее за плечо.
— Мам, чего ты здесь стоишь?
— Сурин умер, сынок. Яков Иванович…
* * *Сурин умер необыкновенно легко. Так, во всяком случае, решили женщины нашего дома. В последнее время он сторожил где-то неподалеку, на стройке, на дежурство уходил вечером, когда у подъезда собирались соседи. Сурин здоровался с ними и шагал себе дальше. А тут вдруг заговорил, чего никогда не было.
— Верно, поди, бабы, весна не за горами… Шибко землей пахнет. Пережили, выходит, зиму-то. Эхма. Спели бы, бабы, чего-нибудь.
И Сурин вдруг весело запел: «Хазбулат удалой, бедна сакля твоя…»
Женщины засмеялись — высоко, мол, взял, Яков Иванович. Он попробовал по-другому, рванул песню и неожиданно, точно подкошенный, осел…
У Сурина в городе не оказалось родственников, и хоронили его жильцы бывшего дома по улице Красных Зорь. В квартире Сурина женщины хорошо прибрали. Вымыли полы, железную кровать с провисшей сеткой вынесли в подъезд. Но следы запустения и какой-то торжествующей бедности все-таки остались. Кислый дурной запах мутил, наверное, его навечно впитали землистые от табачной копоти стены.
То был запах долгого одиночества и тоски.
Я смотрел на желтолицего покойника, с измятым, навалившимся на грудь подбородком, и мне казалось, что даже в гробу Сурин умудрился лежать как-то наскоро. И я подумал, что старик так и жил наскоро, как живут только долгим томительным ожиданием, откладывая все на потом, или несчастьем.
Женщины, которые постарше, сидели на стульях у гроба очень ровно и вглядывались в спящее лицо старика с туповатым, торжественным вниманием. Не сама смерть, не страх перед ней, а ясное понимание ухода угадывалось в каждом гордо скорбящем облике. Женщины помоложе стояли рядками за ними, и в лицах выражение горечи утраты было непрочным, ломким.
Заходили мужчины и, постояв, покомкав шапки, опять выходили в подъезд курить.
Все говорили о Сурине тихо, вполголоса, конечно, о том, какой это был столяр-краснодеревщик, какие руки имел! Каждому было что вспомнить, и каждый это свое, связанное с Суриным, вспоминал с удовольствием.
…Я слушал взрослых, поживших на свете людей и испытывал сложное чувство: печали, жалости к старику и протеста. Мне казалось, что взрослые, из принятого на похоронах приличия, специально умалчивают о том, что Сурин последние годы пил. Несколько слов о том, что старику не хватало мужества жить — не в счет. «Как это так — не хватало мужества жить?! Разве он один пострадал? Только в наш дом на Зорях, кроме Суриных, еще две похоронки принесли. Но люди-то справились с горем и живут по-человечески. Даже Настя наша не пропала, — думал я. — Неужели так трудно было выставить краснорожих забулдыг из квартиры и сказать себе: «Нет!»
Но по тому, как бывшие соседи с настойчивым упорством перечисляли сделанные Суриным этажерки, кухонные столы и табуретки, ставни и двери, которым «никогда не будет износа», я начинал понимать, что мера привнесенного им добра была неизмеримо выше последних, бестолково прожитых лет. Нет, Сурин не сгинул. И люди провожали не жалкого, брошенного всеми пьянчужку, а Мастерового! Конечно, если бы мы жили на Зорях, старик не был бы так одинок… Я отлично помню его чистую каморку, с марлевыми в пол-окна занавесками. Когда-то, очень давно, он водил щеглов и был дружен со всеми мальцами нашего двора. Он жил тихо, словно боясь нарушить покой навсегда ушедших жены и сына, оставшихся во всем в его комнате: в скромной мебели, в стенах, в запахах. Наверное, он любил то, прежнее свое жилье, любил памятью о счастливых днях молодости, надежд и берег от любого равнодушного прикосновения. А здесь все ему было чужим — эта просторная квартира с водопроводом, ванной, персональным туалетом, эта асфальтированная улица с большими домами за окном.
И потом, когда гроб с Суриным мужчины понесли из подъезда, я подумал, что не смогу представить себе старый двор и вообще детство без этого старика.
Поминки организовали в складчину. Много на поминки намело дружков Якова Ивановича. Они быстро захмелели и разговаривали шумно, как в пивной.
После поминок мы с Лидкой разнесли по соседям стулья и помогали убирать в квартире. Кровать не собрали, просто поставили сетку и спинки на прежнее место к стене. Сетку накрыли зеленым одеялом.
— Эдик, иди-ка сюда, — позвала меня Лидка. Она что-то разглядывала на этажерке.
Этажерка стояла у окна. Она была затейливо украшена: крученые стойки поверху соединены перильцами и покрыты резной вязью. На средней полке — толстые и тонкие книги. Несколько томов старой энциклопедии, школьные довоенные учебники с желтыми корешками и новенький трехтомник Пушкина в синем коленкоровом переплете. Наверху, под перильцами, в самодельной фанерной рамочке, фотография — крепкий, пышноволосый парень в двухцветной куртке со значком «Ворошиловский стрелок» возмущенно смотрел в объектив глазами Якова Ивановича. Парень стоял, положив ладонь на плечо сидящей круглолицей, тонкобровой женщины. Наверное, женщине посоветовали улыбнуться, и она попыталась, и фотограф запечатлел эту попытку — напряженную и некрасивую улыбку.
— Это сын Якова Ивановича, Федор. Он в танке сгорел в боях за Москву. А жена Сурина, Варвара Тимофеевна, погибла в бомбежку, — сказала Лида. — Ты же знаешь.
Я поставил снимок на место рядом с коробкой из-под «Казбека», в которой лежали награды Сурина: орден Красной Звезды и две медали. Их сняли с бархатной подушечки и сложили сюда.
Лида подала мне томик Пушкина:
— Вот, почитай.
«Дорогому Якову Ивановичу Сурину, фронтовику, отцу Федора Сурина, геройски погибшего в боях за нашу Родину, от учащихся 7 «А» класса семилетней школы № 8. На память о встрече».
Дарственная надпись была выведена очень старательно, под линеечку, фиолетовыми чернилами, а цифры написаны отчего-то черной тушью, крупно…
Поздним вечером я провожаю Лидку. Над городом высокий небосвод с густыми яркими звездами. Мы идем медленно. Под ногами похрустывает тонкий ледок. От сегодняшнего дня у меня тупая тяжелая голова и в груди что-то саднит.
Мы говорим о Сурине.
— Ему только шестьдесят лет исполнилось, а выглядел он таким старым, правда? — Лидка прячет руки в карманах пальто, и плечи у нее приподнимаются.
— Наверное, от горя. Да еще выпивал.
— В старом дворе он тоже выпивал, — вздыхает Лидка. — Только как-то по-чудному. Никто всерьез не принимал. Четвертинку купит, всем показывает. А потом с кем-нибудь из наших выпьет и на могилку идет, — говорит Лидка каким-то не своим, огрубевшим голосом. — Конечно, тогда мы все вместе были. А теперь каждый зарылся в свою нору. Яков Иванович, бывало, встретит, в гости зовет. Умоляет. Я только один раз у него и была на новой квартире. Папа договаривался с Яковом Ивановичем сделать у нас антресоли.