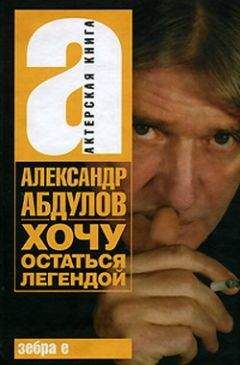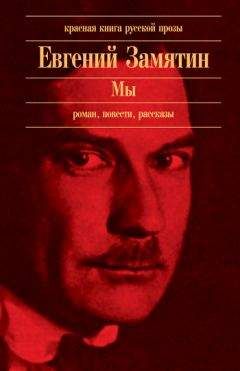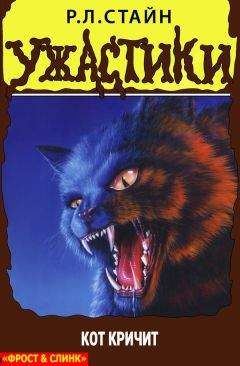Вильям Александров - Странный гость
— А я ее не виню, откуда вы взяли?
— Так мне показалось. Ну, а если ты винишь меня…
— И не Думал. Чего бы мне вас винить?
Не знаю… Но мне бы очень хотелось, чтоб мы с тобой стали друзьями.
— Ну… я… не против.
— Ладно, я понимаю, по заказу такие вещи не делаются. Во всяком случае, я бы очень тебя просил: постарайся посмотреть на все другими глазами, без предвзятости, без предубеждения. Мы все здесь больше всего на свете хотим, чтобы тебе было хорошо. Может быть, что-то у нас тебе покажется не так, но, поверь, все делается от чистого сердца.
— Я верю.
Вот и хорошо. Ну ладно… — он встал. — Я пойду, пожалуй, поздно уже. Ты извини, если что не так…
— Да нет, что вы. Все так…
Он ушел, а я взял гитару и попробовал подобрать один мотивчик. Тот самый, что Саша хотела спеть. Но то ли я его плохо запомнил, то ли она не так его пела, но у меня почему-то ничего не получилось…
Ну вот и поплыли мы по морю! Солнце светит, волны плещут, брызги летят, мотор стучит — красота! А вблизи море не синее, а темно-зеленое, на мармелад похоже, режет его на полном ходу наш корабль, белая пена выгибается вдоль бортов, расходится за ними двумя полосами, откатываются волны, а потом опять ударяют в борт, разбиваются… И берег уплывает, уплывает…
Сорок два санаторных гаврика стоят вдоль борта и смотрят в сторону берега. Я думал, они бесноваться будут, носиться, цепляться за канаты, как обезьяны, приготовился держать их, тянуть, лупить, но они, как завороженные, стоят и смотрят на то, как становятся все меньше и меньше деревья, люди, дома, белые корпуса под зелеными крышами. И мне остается только следить, чтобы никому из них не вздумалось перегнуться за борт — это он меня еще на берегу предупредил. И все время я считаю их — должно быть сорок два, об этом он меня тоже предупредил. Кажется, пока все в порядке.
Правда, в одном месте, ближе к корме, собралась подозрительная компания, человек пять, за чем-то они с большим интересом следят, что-то там делают. Я подошел. Оказалось, привязали веревочкой бутылку, бросили ее за борт, и она скачет по волнам, как лягушка, а им это очень нравится. Ну, одному, который вытянул руку за борт, я отвесил на всякий случай шелобан, сказал, что в трюм отправлю, если еще увижу. Они все тут же отодвинулись от борта, я пошел дальше, а сам нет-нет да оглянусь на них, ничего, дистанцию держат.
А потом мы с ним столкнулись лицом к лицу. Шел он с каким-то пожилым дядькой в морской фуражке, разговаривал, а сам веселый такой, волосы растрепались на ветру, глаза светятся, и весь он какой-то праздничный, что ли. Увидел меня, остановился. «Ну, как, — кричит, — на борту порядок?» «Порядок», — говорю. «Ну, молодцом, так держать!» и пошел дальше. Я постоял, поглядел ему вслед, посмеялся, в моряка он играет, что ли…
Поднялись они с морячком по лесенке, зашли в какую-то белую будку, а через минуту я услышал его голос из репродуктора: «Ребята, обратите внимание, сейчас мы приближаемся к выступу, который называется Зеленый Мыс. Здесь на территории заповедника расположен знаменитый, единственный в своем роде ботанический сад…» и дальше стал рассказывать про этот сад, про то, какие удивительные цветы там растут, кто и когда их посадил, откуда их завезли. А потом стал говорить про бухту за Зеленым Мысом, какое это поразительно красивое место, как сюда приезжают художники со всех концов света, чтобы нарисовать этот залив, особенно вечером, перед закатом, потому что тут, оказывается, иол у частей Какое-то особое преломление света, и закаты здесь Невозможно красивые, почти фантастические…
Бедные санаторные лопушки! На них, видать, все это произвело такое впечатление, что они не знали, куда раньше глядеть — то таращат глаза на рупор, откуда слышен его голос, то вертят головой в сторону берега, изо всех сил стараются разглядеть эту невероятную красоту!
А еще через какое-то время я увидел его уже среди них. Они окружили его плотной кучей, а он толковал им что-то про Айвазовского, про поэта Волошина, стихи какие-то читал…
Пока они таращили глаза и ворочали своими стрижеными головами, я решил обойти теплоход, осмотреть его получше. Зашел на противоположную сторону и вижу — стоит у пустого борта, спиной ко мне, щупленькая фигурка с острыми плечиками. Что-то знакомое в ней почудилось мне, подошел, глянул, ну точно, она, Саша. Стоит, руками за борт взялась и глаз с моря не сводит, ничего вокруг не замечает.
Я стал рядом, постоял немного, говорю:
— Здравствуй, Саша.
Она поглядела на меня, губы чуть дрогнули.
— Здравствуй, — говорит. И опять туда, в морскую даль смотрит.
— Ты чего здесь одна? — спрашиваю. — Все там стоят, красоты изучают, про Айвазовского слушают…
А мне здесь хорошо, — говорит, — я на море люблю смотреть.
Постояли мы так, помолчали. Я поглядываю на нее сбоку, вижу, она и впрямь с воды глаз не сводит, будто заворожили се зеленые волны.
— Ты чего убежала тогда? — говорю.
— Когда?
— Ну, песенку эту свою стала вспоминать, про Рыбачий, и убежала.
— Грустно мне стало, дом вспомнила, отца. Мы эту песню всегда с ним пели.
— Чего это? Певец он, что ли?
— Моряк он. Радист на корабле. Как вернется из плаванья, сядем мы все вместе за стол, одной рукой он маму обнимет, другой — меня, и скажет: «Ну, что, Сашенька, слоем любимую…»
Она вдруг всхлипнула и тут же губу закусила, чтоб не зареветь. А мне вдруг до того жаль се стало, сил нет. Вот так бы взял сейчас за плечи, прижал к себе и не отпустил бы никуда.
— Да ты не печалься так, — говорю, — будешь ты еще сидеть вместе с отцом, и песню любимую петь будешь. Все у тебя еще будет.
А сам подумал, что никто никогда не садился вот так со мной рядом. Магнитофон дарили, джинсы приносили, деньги давали, а вот так, чтоб сказать — споем нашу любимую…
И холодно мне вдруг стало. Как будто я один в этом море. Как будто нет вокруг ни одной живой души, только темно-зеленая вода без конца и без края, во все стороны. Я даже вздрогнул.
— Ты у Николая Петровича живешь? — спросила она.
— Да. В гости приехал. А ты надолго сюда?
Если б я знала! — она с тоской посмотрела вокруг. — Позвоночник стал болеть, мама привезла сюда, сказала ненадолго, только обследуют. А вот уже третий месяц пошел…
— Что врачи говорят?
— Подождать надо, говорят. Лечат.
— Ты в каком корпусе?
— Во втором.
Ну, это ничего, — говорю я тоном знатока, — лишь бы не в третьем.
Да, лишь бы не в третьем, — как эхо откликается она и не отрывает глаз от воды. — Только боюсь, как бы не перевели.
— Ну, что ты, так не бывает! — бодро говорю я.
— Бывает, — тихо произносит она. И такой у нее голос, что у меня мурашки бегут по спине.
— Послушай, — говорю я, — у тебя, наверно, друзей тут нет никого? Да?
— Да.
— А хочешь я буду каждый день приходить к тебе? У меня маг есть, записи потрясные. Песни петь будем, эту самую… твою любимую споем. Хочешь?
Она отводит взгляд от воды, долго смотрит на меня, не мигая, своими грустными глазами, и я вдруг открываю, что они у нее такого же цвета, как вода в море.
— Хочу, — еле слышно говорит она.
Уже вечером, дома, Николай Петрович спросил меня, удалось ли подобрать мелодию к стихам Алены. Послезавтра они в корпусе будут проводить очередное собрание клуба «Бригантина» — есть у них такой клуб мечтателей. Я сказал, что пробовал, но ничего не получилось.
— Жаль, — вздохнул он, — это было бы так здорово… Ну, да ничего. Но ты приходи обязательно, думаю, интересно тебе будет. Придешь?
— Ладно, — сказал я, — постараюсь…
10
Николай Петрович вышел на середину зала, поднялся на деревянный, обтянутый зеленым плюшем помост, сделанный специально для таких случаев, оглядел ряды кроватей, расставленных так, что они лучами расходились от помоста во все стороны, образуя несколько кругов, затем оглядел края зала, где на стульях, скамьях, а то и просто прижавшись к стенам, собрались те, кто был на ногах, увидел внимательные, жадно раскрытые, устремленные к нему со всех сторон глаза и почувствовал, как знакомое волнение входит в душу.
— Очередное, сто двенадцатое собрание клуба «Бригантина» объявляю открытым, — громко сказал он и взмахнул рукой так, чтобы увидели в радиорубке.
В динамиках зашипело, затрещало, и вдруг чистый, высокий, певучий глас трубы прорезал тишину зала, отразился от стен и замер где-то в вышине, под сводами, на тревожной, звенящей, вибрирующей ноте. И в ту же секунду несколько звонких юных голосов вдохновенно запели:
Надоело говорить и спорить,
И смотреть в усталые глаза…
К ним присоединились другие голоса, из зала, затем песню подхватили, теперь уже пели все — и те, кто лежал в кроватях, и те, кто стоял у стен, и сам Николаи Петрович на своем возвышении, все пели: