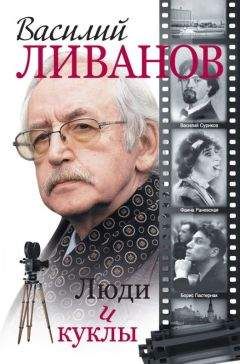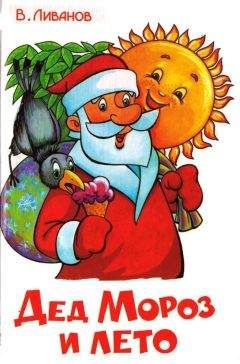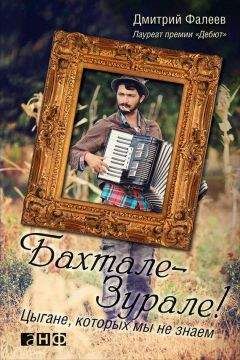Александр Ливанов - Начало времени
— А ну‑ка сбегайте в сельраду! Там в шкафу, внизу ящичек с гвоздями. Он тяжелый, но втроем сдюжите.
— Сдюжим! — хором отвечаем мы.
— Вот и хорошо! — Одна нога здесь, другая там!.. Да! У шкафа дверь вываливается. Дубовая она, тяжеленная. Как бы не пристукнула кого. Осторожней!..
Последние слова мы уже слышим далеко позади себя.
Когда гвозди нами наконец принесены — никогда не думал, что гвозди, эти соблазнительно блестящие новые гвозди, могут быть такими тяжелыми! — мы застаем чуть ли не полсела на строительной площадке. Дела для всех явно не хватает. Но каждый сам соображает и находит чем заняться. И все же работа подвигается быстро. Едва уложен каменный фундамент, как пошли вверх лампачные стены. Гаврил Сотский сам увлекся работой. Кельмой с удовольствием шлепает глину на лампачи, обмазывает их той же кельмой, ловко работает — даже сам себе улыбается: стена уже ему по грудь. Однако тут же спохватывается Гаврил, наш голова комнезама и сельрады, кому‑то передает кельму, — спешит к плотникам. Он делит их на группы по нескольку человек. Одним поручает сколачивать двери, другим — дверную коробку. Грицька он ставит на самую тонкую работу: связать рамы для двух окон: два окна, по окну с каждой стороны дверей! Большинство крестьянских хат строится именно так. У нашей хаты — и вовсе одно окно. Значит, хата Степана будет лучше пашей. Я не испытываю зависти. Наоборот, мне хочется, чтоб дом был хорошим и красивым.
Когда прибывает очередной воз с глиной, Гаврил Сотский отзывает в сторонку отца.
— Как думаешь, Карпуша… Ежли немпого красной материи сельрадской отпустить на рубаху и на кофту молодым?
— Ты что? Из ре–во–лю–ци–он–ной материи — бабью кофту? — как бы с перепугом говорит отец.
— А во что ж прикажешь трудягу самого что ни на есть обряжать? Может, в поповский бархат? Или в шелкмадаполам? — делает строгое лицо Гаврил Сотский.
— Уж пебось распорядился? — поразмыслив, смягчается отец.
— А то нет!.. Возможно, и взгреют в волости. Да, надеюсь, как‑нибудь расплююсь. Не себе же и не на базар! Твоя баба и занялась шитьем. Справится?
— Пожалуй, — сказал отец. И вдруг усмехнулся: «Вот потеха будет, когда поп их в красном увидит у себя в церкви!»
Так вот, значит, какие «знамена шить» с утра ушла мать к попадье Елизавете! Говоря «знамена», мать улыбалась. А я, увлеченный мыслью о толоке, ни о чем не догадался. У поповпы — единственная на селе швейная машина. На чугунных ажурно–литых ее боковинках — не по–русски, но прочитать можно — написано: «Зтдег». Я много раз слышал это слово, но каждый раз мне кажется, что сам читаю его, когда бываю в поповском доме. Если б не толока, ради одной этой швейной машины «Зингер» я, конечно, увязался бы за матерью. Значит, она шьет свадебные наряды для Степана и Горнины. Красные свадебные обновы! По–моему, это здорово придумано. А отец еще ругает Гаврилу. Ведь он — вон какой башковитый!
И все же я смекнул, что распространяться о красных свадебных нарядах для молодых не следует. Но, ох как трудно удержать секрет от друзей!.. Я беру слово с Андрейки и Анютки («вот тебе крест истинный, что больше ни–кому!») —и секрет перестает быть секретом.
…Солнце уже поднялось высоко, когда двое парубков начали крыть крышу соломой. Дидусь Юхим, понаблюдав за их работой, шумнул на парубков, и те, оправдываясь и виновато посмеиваясь, слезли с крыши — уступили работу ему. Уж тут дидусь показал свое мастерство! Казалось, у него не две руки и десять пальцев, а какая‑то вязальная машина! Слои соломы укладывал он быстро и сноровисто снизу вверх красивыми, слегка волнистыми рядами. Мужики, взглядывая на работу глухого, одобрительно покачивали головой. Молодые мастера, разжалованные в подмастерья, охотно подчинялись глухарю.
«Тыр–р-р!» — раздалось за углом дома. Из байдарки выбрался грузный и неторопливый Терентий — в неизменной своей длинной толстовке из «чертовой кожи» с пояском на пуговке, в темном, пропылившемся картузе. Картуз Терентий на миг скинул с головы, взяв его за козырек, будто стряхнул пыль с него, тут же снова надел: поздоровался с миром. По–хозяйски обошел дом, молча выслушивая замечания и реплики воодушевленных строителей. Став у угла задней стены, Терентихг присел, прищурился и чертыхнулся. Стена местами бугрилась, местами, наоборот, была в седловинах. Подскочивший Гаврил Сотский тоже присел, тоже прищурился:
— Ну, ничего страшного!… Бабы выровняют, когда мазать хату будут.
— Ну да, сами себе глаза замажут, — проворчал Терентий, избегая взгляда веселого, не в пример ему, головы комнезама, — э–эх, столько хозяев, а стенку кривую кладут…
И, вздохнув, Терентий достает серебряные часы, щелкает крышкой и рассеянно смотрит на них.
— В расход вогнали вы меня с этими хоромами. Ведь материал закуплен был для ремонта мельницы. Да ладно уж… Времена такие, что и не знаешь, что лучше: иметь или раздать. Налоговый пресс — все соки выжал… Никто не ошибется, в чужой карман копейку не сунет. Все с нас, с хозяев!… И нас же святым кулаком по окаянной шее… Хоть срок, Гаврил, малость послабили? А? Срок мал, а платеж велик…
— Не могу — и не проси, Терентий! От кого чают — того и величают! — все так же насмешливо и даже с лихостью ответил Гаврил Сотский. — Что, не сдюжишь? Или неволя велит сопливого любить?.. Пойми, новая жизнь, хо–зя–ин!
— Новая, говоришь? А сам пьешь по–старому? — угрюмо спросил Терентий. — Ведь не бросишь? То‑то ж! Это — раз… Шумишь, командуешь, а стенку кривую выложил и говоришь: «Сойдет». Это — два… Значит, уже с начала свою новую жизнь обманываешь… Э–эх!..
И видно вспомнив нечто более важное, сам себя перебил.
— Я Марчуку дал три карбованца. Как хотите употребите. То ли людям на угощение после толоки, то ли молодым на обзаведение. Я бы советовал молодым отдать. Бочонок бражки, капусту, огурцы соленые, арбузы квашеные — это дочка Мария вам спроводит. Уж никто не скажет, что Терентий жила и куркуль…
— Может, и не жила, а что куркуль — так это точно. Класс, Терентий Иванович! — показал редкие почерневшие зубы председатель комнезама и сельрады Гаврил Сотский. И сам смеясь своей шутке, обернулся к сельчанам, как бы приглашая их отметить свое остроумие.
— Да погоди ты со своей… политграмотой. Я молодым еще решил выделить поросеночка трехмесячного. И мешок муки. Вот какой куркуль Терентий… А что ты им дашь? Молчишь. Нечего у тебя давать… Я так понимаю, Гаврил, — вам бы за кулака — за хозяина то есть — зубами держаться. А у вас от зависти разум мутится… Или взять, к примеру, тебя. Кроме легкости да веселости характера — ничего в тебе нет…
— Что ж, Терентий Иванович, —насупил брови Гаврил, изображая пеидущую к нему сейчас серьезность, — веселый характер особую цену имеет. Жить надо весело! А то что у тебя за жизнь? Сам‑то на себя погляди, Терентий Иванович. Ты и в праздник не улыбаешься, жена — живые мощи, хоть в Печерскую Лавру отвози. Правду, видно, Карпуша–солдат говорит: где много денег, там мало радости. Так что мы богаче твоего. А чего недостанет — не постесняемся, у вашего брата — экс–плу–ататора — и востребуем!
Грузный, большеголовый и хмурый Терентий, не дослушав философствования головы комнезама, пошел к своей байдарке.
И укоряюще–ворчливый голос, и скользящий мимо взгляд, и внезапная задумчивость посреди разговора — все это было новым для обычно уверенно–басовитого, еще недавно победительно шествовавшего по земле Терентия.
— Выдыхается хозяин! Годы свое берут, — сказала Олэна, с кокетливо подоткнутым подолом и босыми ногами месившая глину.
— Не годы, а время другое пришло, — отозвался Симон, подливавший воду в замес, — фининспектор ему такое обложенье сделал, что он, слышал я, собирается продать и мельницу и маслобойку. А кому продать? Теперь даром никто не возьмет. Придется ему все оставить да подаваться на все четыре стороны… И то сказать, без манёвра наш Терентий. Другой бы пару червонных в зубы этому замухрышке фининспектору, угощение, то да се — половину обложения скостил бы. А то ведь Терентий в кубышке деньгу держать не любит. Все в дело! Недавно нефтянку купил для мельницы, уйму денег отдал. А теперь из обложения не выкрутится.
— Чего ты об нем жалкуешь? Шила он бессовестная. Надо же, по мерке ржи за пуд помола! От трудов праведных не паживешь палат каменных.
— А даром мелют только языком! — раздраженно возразил Симон жене. Та ничего больше не сказала, а только резвей пошла перебирать ногами. Симон с приподнятым ведром в руках в задумчивости смотрел в сторону Терентия. На глазах сникал, падал бог Симона.
Легкая байдарка скрипнула рессорами, вся перегнулась, подалась навстречу хозяину, едва тот занес на приступок ногу в тяжелом смазанном сапоге. Не успел Терентий разобрать вожжи, как каурая кобылка поплелась со двора — со двора Степана, нового хозяина.